Читая книгу Станислава Куняева «К предательству таинственная страсть…»
Литературно-критическая повесть
Узоры человеческой жизни
расшиваются по вечной канве.
А. Блок, «Катилина»
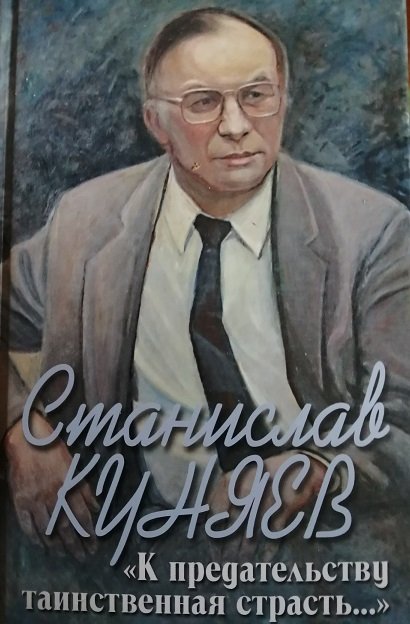
Революция или контрреволюция?..
Когда Станислав Юрьевич Куняев начал выпускать свои литературно-публицистические книги, тогда подумалось прежде всего о том, что он, теперь уже патриарх русской литературы, один из самых талантливых поэтов послевоенного периода советской истории, второй половины ХХ века и начала века нынешнего, блестящий публицист, глубокий мыслитель, волею судьбы оказавшийся в эпицентре духовно-мировоззренческих противоборств, терзающих наше российское бытие, многие годы – главный редактор литературного журнала «Наш современник», причём, в самое трудное для литературы время, конечно же, имел полное право на воспоминания и мемуары. Не могло не поражать и не восхищать то, что писатель в столь почтенном возрасте сохраняет остроту ума и ясность сознания, работает с такой же энергией, как и ранее, как и работал на протяжении всего своего творческого пути. Эти книги с новой силой подтвердили цельность и последовательность его творческой и человеческой личности. А их, этих книг, оказалось действительно много, начиная с целой серии «Поэзия, судьба, Россия», «Возвращенцы», «Стас уполномочен сообщить», «Умом Россию не понять», «Терновый венец России», «Любовь исполненная зла… И бездны мрачной на краю…» и других. Вплоть до нынешней «К предательству таинственная страсть…» (М., «Наш современник», 2021). Книги, в определённом смысле итоговой, канонической и монографической. Канонической в том смысле, что в неё отобрано то, что имеет прямое отношение к главному и основному духовно-мировоззренческому противоборству в русском мире, и составляющим основное содержание эпохи, вопреки теории о классовой борьбе, – между либерал-западниками и славянофилами; «шестидесятниками» и почвенниками»; революционерами и традиционалистами; в конечном счёте, между государственниками и космополитами. Извечному противостоянию и противоборству, принимавшему в миновавшем веке и в веке нынешнем своеобразные формы.
В этом смысле книга Ст. Куняева оказалась крайне своевременной и даже злободневной, так как, смею утверждать, что природа этого противостояния в обществе на духовно-мировоззренческом, метафизическом уровне остаётся во многой мере не уяснённой, сокрытой, нередко толкуемой ложно. А в широких слоях читателей и даже в среде людей, вроде бы, образованных всё ещё пребывает и преобладает на догматическом уровне, далёком от истины.
Правда, тогда, когда начали выходить эти книги Ст. Куняева, подумалось и о том, а до таких ли серьёзных книг теперь, пусть не о столь отдалённом, но всё-таки о прошлом, когда у нас в России, самой литературоцентричной стране произошло и пока ещё происходит, казалось, немыслимое и невозможное: великая русская литература, являющаяся формой народного самосознания, содержащая код нашего российского бытия, уже спасшая нас в революционном ХХ веке, по сути, вытеснена из общественного сознания и образования, подменена тем, что ею не является, когда во многой мере оказалась утраченной сама природа художественного творчества. Ведь даже подчинено литературное дело в стране не министерству культуры, а цифровой информации. Имитация же литературы, когда критерием оценки её вполне серьёзно и исключительно являются «шумиха и успех» (Б. Пастернак), корпоративные премии, не имеющие никакого общественного значения, не могут скрыть существа трагедии. И произошло это с помощью пресловутого «рынка», к литературе отношения не имеющего, являющегося формой её подавления.
Хотелось от патриарха прямого и лаконичного ответа на вопрос о том, – как быть теперь литератору в такое нелитературное время, перед этой, вдруг развёрзшейся бездной? Как уже бывало в нашей истории, задрав штаны, бежать за этим сомнительным «новым» и «прогрессивным», где всем правит лицедейство и позёрство и оказаться «в тренде»? Или же остаться с литературой и её традицией, в пределах народного самосознания. Но при этом «быть вытесненным постепенно» из информационного пространства, оказаться «на обочине», помня о том, что жизнь человеческая устроена так, что первые, как правило, бывают последними, а последние – первыми. Ну, на одно поколение этого энтузиазма хватит. А дальше как быть?..
Но оказалось, что эта дилемма вовсе не нова для литературы. С ней сталкивается каждый истинный писатель во все времена, хотя, конечно, каждая эпоха имеет своё, до времени неведомое своеобразие. Оказалось, что надо быть, как и всегда, о чём писал, к примеру, Д. Мережковский: «Всё потерял писатель, нарушивший неумолимый закон: будь похож на читателей или не будь совсем. Я готов не быть сейчас, с надеждой быть потом» («Атлантида – Европа. Тайна Запада»).
Но чем больше я вчитывался в книги Станислава Куняева, тем больше убеждался в том, что пример, образец не только писательского, но и человеческого поведения уже явлен. А понадобится ли он новому племени, зависит уже не от автора. Оказалось, что это вовсе не воспоминания и не мемуары в привычном их понимании. И не горделивое подведение итогов долгой, бурной, такой непростой и на удивление последовательной литературной работы. Это – продолжение постижения писателем через личный человеческий и литературный опыт родины, России, которому у истинного поэта не бывает конца. Постижение трагического ХХ века, трудной, но уникальной послевоенной советской эпохи. И – с точки зрения не только собственно событийной или идеологической, как зачастую бывает, но, именно мировоззренческой, в согласии с духовной природой человека. Со страниц книги «К предательству таинственная страсть…» предстаёт не только литературно-историческая, но прежде всего мировоззренческая летопись того, что происходило и происходит у нас в литературе, в общественной мысли, в жизни. И эта картина, мягко говоря, очень даже отличается от преобладающей ныне в обществе и особенно в его образованной части, построенной на тех или иных догматах, не столь важно каких именно. В данном случае – на либеральных.
Стало совершенно очевидно, уяснилось окончательно, что Станиславу Куняеву принадлежит некое исключительное место в русской литературе и общественной мысли второй половины ХХ века и начала века нынешнего.
Это книга не для единовременного прочтения, так как насыщена такими литературными фактами и фактами литературной жизни послевоенной эпохи, которые, кажется, нигде кроме сознания и души автора более не сохранялись, но без которых трудно понять смысл происходящего, суть того духовно-мировоззренческого противоборства, которое закончилось для всех нас трагически – и для правых, и для виновных – очередным революционным крушением страны, духовным падением общества, умалением человека, разложением культуры и литературы, погружением людей в апатию, утратой самого смысла существования. Хотя это – не только наше российское, но и мировое явление, исход которого пока ещё не вполне ясен.
Теперь, «на руинах великих идей» (Ю. Кузнецов), книга Станислава Куняева побуждает нас задаться не наивными и никчёмными вопросами «кто виноват?» и «что делать?», но – к размышлению о том, почему так произошло, по причине каких попущений? Какой выход из этого безвременья и падения диктует нам человеческий, народный и государственный опыт, и опыт великой русской литературы.
Да, это в определённой мере «разбор полётов», необходимый и неизбежный после таких разрушительных событий, какие мы пережили и всё ещё переживаем. Во всех областях жизни. Это выявление «вклада» всех, вольное или невольное, в постигшую нас катастрофу. При этом благие намерения и степень искренности в расчёт не берутся, так как они не могут быть ни извинительными, ни оправдательными. Ведь и глупцы не чужды вдохновенья. А время понятной политкорректности прошло, так как общество уже доведено до того предела, который можно определить разве что Блоковскими словами – «Развязаны дикие страсти». Да и война уже идёт на наше народное и государственное уничтожение.
Станислав Куняев выявляет истинный смысл происходившего, остающийся сокрытым и загромождённым приличной, но лживой риторикой о благих намерениях. Даёт нелицеприятные характеристики персонажам, оказавшимся в центре этих событий и полагавшим, что они творят «историю», а не тормозят наше народное и государственное развитие, отбрасывая его далеко назад.
А такой «разбор полётов», такие оценки происшедшего и всё ещё происходящего необходимы во всех сферах жизни. Натыкать по всей стране идолов главных разрушителей страны, таких как А. Солженицын и ждать какого-то развития, благополучия, значит продолжать, а не преодолевать катастрофу…
Станислав Куняев различил феномен «шестидесятничества» изначально, при самом его появлении, то, что характеристика и само имя его выходит не из хронологии эпохи, не из того, что они жили в шестидесятые годы миновавшего века. В таком названии их как раз и не было содержательной стороны. Это – специфический комплекс воззрений и верований, уходящих в глубокую древность, – на мир, на человека в этом мире, на социальное устройство жизни, на Россию, точнее – её ненужности в этом мире, в общей истории человечества; на природу культуры и литературы. Словом, комплекс «ценностей», которые они исповедовали, считая их «передовыми» и «прогрессивными», но представляющих собой набор дежурных догматов исключительно либерального толка. Примечательно, что «шестидесятниками» назывались и называются только представители либерал-западнической, радикальной революционной мысли. И он вовремя распознал так же, как и авторы знаменитого сборника «Вехи» в 1909 году, грозящую от них опасность человеку, обществу, народу, стране.
Знаменательно и то, что он не отстранялся от них, а жил и работал с ними рядом, постигая суть этого туманного явления, продираясь через официальные идеологические установки. И, как видно по всему, истинная суть «шестидесятничества» вполне открылась ему только в начале девяностых годов, в результате либерально-криминальной революции…
– Да неужто не ясно, что именно произошло у нас в России в начале девяностых годов и всё ещё происходит? – может спросить наивный и доверчивый читатель. И мы, к сожалению, должны ответить на это со всей определённостью: да, не ясно. В общественном сознании по крайней мере, на духовно-мировоззренческом уровне, а не на позитивистском и материалистическом. И не на социальном только. И уж тем более не на идеологическом, не столь важно на каком именно. А без этого, без уяснения смысла происходящего невозможно наше дальнейшее развитие и спасение, ибо «все на свете вещи должны быть определены с точностью» (Ап. Григорьев). Да и вообще «недопустима путаница слов» (Ст. Куняев)…
В самом деле, прошло более тридцати лет с тех пор, как у нас в стране что-то произошло. Произошло столь значимое и грандиозное, что и страны в прежнем виде не осталось, переменился сам воздух жизни; произошло нечто и с самим человеком, а определения, названия, имени происшедшему так до сих пор и нет. Собираются люди грамотные, образованные, опытные, скажем, на телевизионные публичные обсуждения, чтобы задаться этим сакраментальным вопросом, и не могут на него ответить, что противоречит опыту времён предшествующих. Одни говорят, что в России произошла контрреволюция, другие – что это, новая, очередная революция. В конце концов сходятся на том, что это, мол, не столь важно. Но постойте! Как это не важно? Это и есть главное, основное, ибо это далеко не пустая игра слов. За каждым из них следует не только не сходный, а прямо противоположный образ действия человека. Да и вообще, в начале было слово, какие слова выработаем, такими будут и дела, наше состояние и положение. А жизнь не осмысленная, не находящая даже своего названия, проваливается в небытие.
Словом, нет названия эпохе. Словно и не было до этого целых гор, действительно глубокой, в терзаниях и муках рождаемой литературы, которая могла бы помочь нам теперь сориентироваться во вдруг изменившемся мире… Происходит явный интеллектуальный срыв, сброс предшествующего опыта, явный кризис цивилизации. Причём, произошло это столь стремительно, словно выключили свет, как будто повернули некий невидимый рубильник. И это наводит на мысль о рукотворности данного мирового, пока незнаемого нами явления, что представляется теперь, после пандемии, не таким уж невероятным…
Те, кто полагает, что у нас произошла контрреволюция, исходят из, вроде бы, убедительной логики. Если в начале миновавшего века произошла революция, то теперь, по социальному закону бытия – контрреволюция. Вроде бы так, но приняв такую логику, мы игнорируем, вольно или невольно отрицаем всё то, что происходило у нас в России потом, после революции, вместе с Великой Отечественной войной, по сути, вычеркиваем из истории, самый трудный ХХ век.
Да, после всякой революции неизбежно и неотвратимо наступает контрреволюция, реставрация, то есть созидание нового и никому пока неведомого государственного строительства и народного устройства. И такая контрреволюция у нас уже была. Происходила она в тридцатые годы, точнее, начиная с 1934 года. Такой поворот, такая «смена вех» произошла окончательно, можно сказать, с победным завершением Великой Отечественной войны, когда окончательно сформировалась советская цивилизация. Это был главным образом поворот от революционного типа сознания – к традиционному, в конечном счёте к народному самосознанию, естественно, при сохранении марксистско-ленинской догматики, которая была «национализирована», и которая изначально была принята и навязана на государственном уровне вместо исконной народной веры, что как понятно, носило все признаки иноверного завоевания страны… «Не заметить» теперь этого грандиозного поворота в жизни страны можно только преднамеренно, из каких-то идеологических соображений. Или же по специфической ментальности. Или же по глухоте как следствии псевдообразования.
Эта «смена вех» была предпринята во всех сферах жизни, и прежде всего в области сознания, образования, культуры. Особая роль отводилась русской классической литературе. Её издания с точки зрения научной превосходили дореволюционный уровень. О повороте к литературе свидетельствует новое её преподавание и грандиозное чествование А. Пушкина в 1937 году. Был создан Союз писателей. Изменилось изучение и преподавание истории – теперь уже истории страны, а не только истории партии… Народ и страна наконец-то отходили от революционной катастрофы начала века. Вот как вспоминал об этом выдающийся композитор Георгий Свиридов, который писал Станиславу Куняеву: «Я помню те времена! – До первого съезда писателей, до 1934 года русским людям в литературе, музыке, в живописи не то чтобы жить и работать – дышать тяжело было… Но даже мы, музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, к людям русской культуры, поворачиваться лучшей стороной…».
Но происходило всё это по понятным причинам негласно, никак не декларируемо. Но это была именно контрреволюция, предпринятая сверху. Об этом убедительно писал в тридцатые годы философ Г. Федотов: «Общее впечатление: лёд тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию семнадцать лет своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Это настоящая контрреволюция, проводимая сверху». И даже более определённо: «Кончился марксистский пост». Философ сильно сомневался в действительном марксизме тогдашнего руководства страны, так как не на него теперь уже делалась ставка: «В спешном порядке куётся национальное сознание, так долго разрушавшееся». В таком новом режиме он усматривал даже имперское создание и даже то, что оно «вполне заслуживает названия монархии». Впрочем, не только Г. Федотов различил это новое преобразование страны. Уже гораздо позже об этом писал выдающийся поэт русского зарубежья Георгий Иванов: «Погоны светятся, как встарь, / На каждом красном командире. / И на кремлёвском троне – царь/ В коммунистическом мундире…». Или в стихах «К России» неизвестного поэта первой волны эмиграции в шестидесятых годах вернувшегося из Парижа в Россию, в Краснодар, Ивана Прилепского: «Господь тебя благослови,/Некорованной живи…/ И в дальний путь ушедших нас,/ Хотя бы и в последний час,/ Нас – в обновлённую семью/ всех собери под сень свою» (1935 г.).
Да, идеология оставалась прежней, так как она уже не могла быть отброшенной. Она получала новое истолкование: «Марксизм – правда, не упразднённый, но истолкованный – не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребёнок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой – пусть вместе с Горьким – становятся воспитателями народа. Никогда ещё влияние Пушкина в России не было столь широким».
Это был уже совершенно новый уклад жизни, трудно воздвигаемый на развалинах былой России: «Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможностей исторического существования». («Судьба и грехи России», т. 2, Санкт-Петербург, издательство «София», 1992). Заметим, что писалось это задолго до Великой Отечественной войны…
Но какие вопли ненависти поднялись на это действительное возрождение России, на её новое бытие со стороны людей с революционным типом сознания. Эту возродившуюся Россию неореволюционные «шестидесятники» нашего времени обозвали «советским тоталитаризмом» и повели с ней борьбу. Борьбу не против идеологии, их родной, революционной идеологии, разрушившей Россию, а против страны, с таким трудом возродившейся. Догмат оказался для них дороже и ценнее самой страны. В какое межумочное положение они попали – ведь они сами были исповедниками и защитниками «революционных ценностей».
Таким образом, сложилась парадоксальная мировоззренческая ситуация: официальной идеологией были национализированные «революционные ценности», в личине которых, с потерями, но жила традиционная Россия. И оппозиция, точнее диссиденты были людьми с революционным типом сознания, исповедовавшими те же ценности, блюли их первозданную «чистоту». Сокрыто, а то и прямо, декларативно, как Е. Евтушенко и А. Вознесенский …Из всего многообразия и сложности советского цивилизации, в которой страна возвращалась к своей традиции, они усвоили только эту внешнюю, вынужденную и изживающую себя догму – «революционные ценности». Был тут и чисто психологический аспект. Коль советская цивилизация сформировалась в результате революции, значит, всякая революционность есть благо, а «революционные ценности» её являются тем единственным, на чём может восстанавливаться и строиться страна.
В этих догматах, и до сих пор во многой мере блуждает наше общественное сознание, не находя для их преодоления интеллектуальных сил, так как мировоззренческая картина советского периода истории до сих пор остаётся не созданной. В конце концов удалось навязать обществу и народу, что всякая революционность, это – хорошо, это обновление. У нас и «перестройка» оказалась не иначе как «революционной». Мы же бегло касаемся этой в общем-то нехитрой, но сокрытой от большинства людей хронологии и последовательности событий нашей недавней истории, дабы подчеркнуть со всей определённостью, что «шестидесятники» под догматом «советского тоталитаризма» повели решительно борьбу против в таких трудах и муках, лишениях и жертвах сложившейся традиционной России, последовательно сталкивая её, по причине интеллектуальной немощи, идеологизированности и догматичности в новую революционность, для которой уже не было никаких причин, так как прежнюю революционность Россия наконец-то преодолела.
И люди были готовы такому интеллектуальному ничтожеству отдать свою народную, государственную и личную судьбу… В основном по причине того, что общей картины советского периода истории, её, так сказать парадигмы развития, в сознании людей не было. Да что там, если даже историческая наука её не описала, потопив всё в последовательности событий и их подробностях.
Между тем, как сокрытие того, что реставрация у нас уже произошла, что был совершён крутой и решительный поворот от революционности к традиционности, имело трагические последствия для страны и народа. Ведь если реставрации не было, значит революционный анархизм, беззаконие, геноцид первых лет советской власти продолжается? Значит, с ними надо бороться в девяностых годах? Но ведь всего этого уже давно не было. На таком упрощённом до примитивизма шулерстве было построено уничтожение советской цивилизации. Обличительный вал ведь был направлен на существующую власть, к геноциду начала века отношения уже не имеющую. Так с помощью нашей трагической истории была вновь разрушена кое-как устроившаяся жизнь… Но ведь сознание людей должно быть сильно травмировано, чтобы вполне серьёзно повести борьбу с «коммунизмом» не в 1920-е годы, когда она была праведной, а в 1991-1993-х годах, уже не против него, а против в таких трудах и лишениях сформировавшегося уклада жизни. И когда, кстати, таким «борцам» никакая опасность уже не грозила. Так запоздалая борьба против «коммунизма» стала борьбой против самой России, в чём особенно преуспел А. Солженицын.
Никаких объективных причин для новой революции в России к девяностым годам уже не было. Кроме людского стяжательства, которое государство и общество обуздывает. Пример Китая в относительно краткий период превратившегося в великую державу, это подтверждает. Никакого капитализма никто возрождать и не намеревался. Этот образ жизни строится на совсем иных началах, чем те, которые были предложены обществу. Справедливо писал по горячим следам событий С. Кара-Мурза, что «ни о каком строительстве капитализма речь не идёт… Речь идёт именно об экономическом геноциде… И цель эта – тотальное разрушение этой ненавистной, неправильной страны» («Наш современник», № 5, 1992). А потому и вышла новая революция, точнее – либерально-криминальная революция: «Во многих отношениях перестройка оказалась революцией, принципиально отличающейся по своим разрушительным последствиям от всех революций, которые пережило человечество» (С. Кара-Мурза). И словно уже в издёвку опять – октябрьская…
Потому и «не заметили» интеллектуалы в 2009 году столетия(!) знаменитого философского сборника «Вехи», предсказавшего революционное крушение России. В это время всё ещё полным ходом шло либеральное «строительство» страны, а этот сборник обнажал всю ложность либерального курса, так как давал характеристику не интеллигенции вообще, как образованной части народа, а радикальной её части с революционным типом сознания. Кажется, что и очередной, уже объявленный поход «цивилизованного» запада на Россию, на всех нас без исключения, всё ещё не вполне вразумил нашу властную элиту. То ли она не может всё ещё поверить в агрессию, в коварство Запада, то ли действительно непросто расставаться с былыми ложными кумирами.
Но ведь это ничем не оправдано, недопустимо и несправедливо, что 1930-е годы мы знаем только и исключительно по репрессиям, забывая о значительно больших первых потерях, которые принесло революционное крушение страны и гражданская война. А о том, что в это время происходили важнейшие и спасительные для страны и народа реставрационные процессы, об этом неведомо до сих пор даже в среде людей образованных. Разумеется, репрессии были, что в любом случае ужасно. Но ведь надо объяснять, чем они были вызваны, в какой мере они были неизбежны. У нас же это, по сути, возмездие, объясняют только и исключительно дурью тогдашнего руководства страны или несовершенством, низкой природой самого народа, что является хамством по отношению и к стране, и к народу: «Всё это может показаться /Смешным и устарелым нам, / Но, право, может только хам/ Над русской жизнью издеваться» (А. Блок, «Возмездие»). Русская литература устами шестнадцатилетнего пророка М. Лермонтова давно (1830 г.) обнажила эту закономерность в стихотворении «Настанет год, России чёрный год./ Когда царей корона упадёт…»: «И зарево окрасит волны рек:/ В тот день явится мощный человек,/ И ты его узнаешь – и поймёшь./ Зачем в руке его булатный нож:/ И горе для тебя! – твой плач, твой стон/ Ему тогда покажется смешон…» К чему же теперь такая литература, которая пророчествует столь беспощадно не о прошлом, а о нынешнем…
Итак, коль контрреволюция, реставрация в нашей истории уже была, то в начале девяностых годов произошла новая революция, со всеми её признаками, когда вопросы о власти, идеологии и собственности были «решены»… Теперь же перед руководством страны, правящим классом стоит неимоверно сложная задача реставрации, в смысле возвращения к традиционным ценностям, прежде всего в культуре и литературе, в строительстве новой государственности. По принятой терминологии это и называется контрреволюцией. Чем дольше это будет откладываться, чем больше будет длиться такая неопределённость, тем горше будет для нас кровавое похмелье… Взывать в такой ситуации к новой революции, после смуты снова выкликать смуту можно только или по причине смутного представления о природе революций вообще или исповедовать убеждение, что всякая революционность – это величина безусловно положительная. Вот один из примеров такой путаницы: «Спору нет, Кремль осуществляет свою революцию сверху во многом вынуждено, как бы нехотя, наступая на горло собственной песне…» («После смуты», Виталий Аверьянов, «Завтра», № 32, 2022). Словом, заблудились мы в «революциях» окончательно. Ведь власти теперь предстоит наступать на горло собственной песне, либеральной и революционной, которая всё ещё длится… А это ох, как непросто.
Но как уже бывало в нашей многотрудной истории, всё происходит по неслучайному в нашей памяти присловью: «Не было счастья, да несчастье помогло». «Цивилизованный» Запад, уже отбросив всякие дипломатические условности, объявил нам войну. Уже американские пушки с американскими расчётами бьют не только по бывшим украинским городам, но и по российским областям. Если и в этих условиях власть будет поддерживать в обществе достигшую предела американизацию, играть в либеральные идеологические игрушки, давно показавшие свою несостоятельность, всё ещё запоздало заигрывать с «деятелями культуры», давно порвавшими с истинной культурой и уже давно ничего не создающих, а только отравляющих сознание людей, она неизбежно будет становиться коллаборационистской со всеми вытекающими из этого трагическими последствиями – для неё, для страны, для народа…
Дальнейшая имитация, скажем, литературы, да и не только её, теперь уже, когда гремит оружие, недопустима. По радио России постоянно провозглашается: «Поэзия большой страны». Но читается зачастую такое, что невольно закрадывается сомнение в том, что дела наши пока плохи, так как такая «поэзия» ни о чём более не свидетельствует кроме как о духовной скудости. Формально, да, в кои веки заговорили о поэзии. Но не темой же самой по себе жива поэзия…Имитацией же поднять людей на большое дело защиты Отечества невозможно…
Но почему так опрометчиво повёл себя Запад? Видимо, глядя на то, что происходит внутри России, в нашем обществе и, прежде всего в сфере сознания и культуры, Запад решил, что время пришло. Значит, уверен в том, что давно, сразу после войны провозглашённая программа по разложению нашей страны выполнена. И мы не можем не признать, что кое-что ему удалось, что его агенты влияния в нашем обществе действительно влиятельны, иначе уже давно произошли бы изменения в образовании, в культуре и в литературе. Реакция молодёжи на войну, количество бегущих от войны беспрецедентно в нашей истории. Это ведь прямое следствие долгое время проводимой политики в образовании, в культуре, в литературе.
Но к этому неожиданно примешалось и другое, более глобальное, пока загадочное, как некая мировая болезнь, неведомая земным врачам. Что-то стало происходить с самим человеком. Симптомы этого стали явно проступать в тех глупостях и действиях, которые предпринимаются лидерами мировых держав. Не только не согласующиеся с национальными интересами, экономической выгодой, но противоречащие им и всякой человеческой логике. Пока не зная названия этому явлению, люди чувствуют, что наступила некая беда, какой ранее не было. Но такая болезнь периодически возвращается в человеческую цивилизацию. И называется она вырождением. Об этом писал, к примеру, А. Блок в очерке «Катилина»: «Это воспитание подготовляет к чему угодно, кроме самого главного и единственно нужного человеку; результат его был на глазах у всего Рима, он на глазах и у нас: большинство – тупеет и звереет, меньшинство хиреет, опустошается, сходит с ума. Глаза Рима, как и наши глаза, не видели этого; а если кто и видел, то не умел предупредить страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезни вырождения. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание».
Мы ещё не знаем, по каким парадигмам эта болезнь движется, не хотим верить в то, чем она может закончиться, но только явно ощущаем, что она пришла… Не желая признавать её в себе, ибо нас-то она точно «не коснётся», мы замечаем её симптомы в окружающих. Это – безволие, инфантилизм и интеллектуальная немощь, несмотря на все предшествующие достижения, вдруг замолчавшие. Словно кто-то незримый сдерживает наше дальнейшее развитие, дабы мы в своей горделивой одержимости не натворили непоправимых бед с собой и с Землёй. Что ж, видимо, приходится рассчитываться за нашу выделенность душой и разумом из природы, ибо так нелегко и непросто удержаться человеку на предназначенной ему высоте…
Вот чему надо бы учить новые поколения, помимо конечно, практических навыков, технических и технологических построений: как сохранить свою человеческую духовную сущность среди стихий этого мира. Ведь сам по себе «прогресс», без человека не идёт впрок, оборачивается кабаком для «крещёного мира», как писал А. Пушкин в «Евгении Онегине»:
Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменяется безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды.
И заведёт крещёный мир
На каждой станции трактир.
«Просвещенье», в том виде, в каком оно пришло к нам, «благое просвещенье», понимаемое только как бунт, такой «прогресс», доведённый до предела, приводит к ненужности человека вообще, к его вырождению. Информационные сети при всех их удобствах, остаются пока варварски несовершенными, являясь скорее не помощниками человеку, а напоминают вора, приходящего в дом без спросу, и – незваным в душу. Кажется, они в таком виде только затем и придуманы, чтобы затормозить интеллектуальное развитие человека, так как создают иллюзию осмысления предоставляемой ими информации. Степень их сложности не свидетельствует о степени их совершенства. А тотальная слежка за человеком, которая уже представляется неизбежной и естественной, при падении нравов будет употреблена прежде всего во зло, ибо «мешать» жить остальным будут наиболее талантливые и с ними надо будет что-то «делать». Отрицательный отбор людей заработает на всю мощь. Извечный спор культуры и цивилизации, вроде бы, разрешается в пользу цивилизации, но не идёт впрок ни культуре, ни цивилизации, ни во благо человеку, ибо цивилизация в таком виде только загромождает мир, а не объясняет его.
Видимо, люди найдут выход из этой дилеммы, но пока мы находимся в этом тупике спада во всех сферах жизни. И что бы не предпринимали, выходит пока «трактир» и кабак, голое и тупое потребительство во всевозможных его разновидностях.
Книга Ст. Куняева «К предательству таинственная страсть…» побуждает к размышлению о смысле теперь происходящего, давая для этого обширный фактический материал. А это уже – признак её крайней необходимости. Я же останавливаюсь на тех аспектах человеческого бытия, которые в нашем общественном сознании не получали объяснения или толковались ложно.
Вольтеровский соблазн
Два революционных крушения России в одном ХХ веке – в начале и в конце его – побуждают наконец-то задуматься о природе революций в истории человеческой цивилизации вообще. И достойно не только уважения, но и восхищения то, что Станислав Куняев, родившийся в скудные предвоенные годы, детство и ранняя юность которого совпали с войной, живший и работавший в обезбоженной, а то и в атеистической среде, каким-то чутьём поэта распознал природу грандиозных потрясений. Не в пример многим своим современникам, не сумевшим выбраться из-под догматических глыб, впадавших в сектантский патриотизм. Видимо, это подсказал ему духовный опыт русской литературы, которую он не просто прекрасно знает, но, как и должно, переживает заново: «Шестидесятники» думающие, что они восстают против несправедливого порядка, на самом деле бросали вызов Божественному мироустройству». Ведь все революционные потрясения имеют прежде всего духовную, а не только социальную природу и причину. Это прежде всего бунт против Бога, а вовсе не декларируемое намерение справедливого устройства жизни. Ни одна революция в истории никогда не достигала декларируемых ею социальных задач. Потому-то творцы революции всегда и неизбежно «разочаровывались» в их результатах. Всякая революция имеет целью разрушение существующего порядка вещей и ничего более, вне зависимости от степени его справедливости или порочности. И уже только потом, на развалинах былой жизни, неимоверными трудами и муками созидается новая государственность, никому пока неведомая.
На эту адскую работу, как понятно, «нужны» особого склада, и особой организации люди, с революционным типом сознания, неистовые и беспощадные. Это можно понять, над их нелепыми судьбами можно попечалиться. Но выставлять их некими творцами, как это делают «шестидесятники», по крайней мере несправедливо. Их пример можно выставлять для предостережения, но никак не для подражания…
Станислав Куняев прозревает духовную сущность и преемственность нашего и мирового «шестидесятничества»: «При внимательном изучении глубинных причин этой революции всемирного шестидесятничества обнаружилось нечто поразительное: самые радикальные и разрушительные её цели исходили из самых древних, почти мифологических времён человеческой истории – из ветхозаветной эпохи «восстания ангелов» и содомской свободы от всяческих табу, воцарившейся в Содоме и Гоморре».
Ведь архетип всех без исключения революционных потрясений в истории человечества содержится уже в книге пророка Даниила. Царь Навуходоносор сделал божество, истукана, «у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево и бедра его – медные» (2; 32). Приходит некто, толкуя сны и говорит царю, что у него «неправильный» бог, колосс на глиняных ногах. Возьми нашего, настоящего, живого бога или будешь убит: «Ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил» (5; 23). Хотя кому какое дело, какой бог у Навуходоносора… Ну чем это отличается от всех последующих революционных потрясений? Ничем – у вас, «неправильная» вера, вот «передовое учение», оно вам необходимо, «потому что оно верно». У вас не достаёт «демократии», мы принесём её вам. Примите наши «ценности» и заживёте как весь «цивилизованный» мир. Результат один: «Он придёт без шума, и лестью овладеет царством» (11; 21)…
Это ничем не отличается от проповеди наших «шестидесятников». Разве только тем, что там предлагали богов извне, а тут – сомнительные «ценности» внутри страны и общества, по причине видите ли того, что страна – «неправильная» и её надо переделать. Но поскольку не говорится, как и во что переделать, а только «переделать», это значит, что её надо уничтожить: «Наш главный краеугольный камень заложен неправильно, сделан из неправильного материала». Изначально и всегда, ещё со времён Ивана Грозного (Д. Быков, «Обречённые победители: шестидесятники», ЖЗЛ, М.,«Молодая гвардия», 2018).
Надо сказать, что человек с революционным типом сознания бунтует не потому, что его «душа страданиями человеческими уязвлена стала», а потому, что иного способа заявить о себе в этом мире, кроме разрушения, у него нет. Такова его природа. Такова его «миссия», но беда приходит, когда она получает преобладание в обществе, причём, абсолютное. А декларации о народе и его страданиях – всё это для самооправдания, что подтверждается многовековой историей революционных потрясений. А то и для обычного обмана.
Радикал бунтует и разрушает, по сути, без причины, кроме самоутверждения, так же, как и Каин убивает брата своего без причины: «И сказал Каин Авелю, брату своему» (4: 8). Что именно сказал Каин, в книге Бытия не говорится. Это – не важно, так как все равно он убьёт брата своего. Без мотивации… В первом соборном послании св. апостола Иоанна Богослова: «А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» (3: 12). То есть опять-таки, без причины, по своей натуре…
Нам скажут, что этот всеобщий закон бытия, в каждую историческую эпоху имеет свои формы проявления. По какой незримой парадигме развивается человеческая цивилизация сегодня? Мне кажется, что тот соблазн, в который впала человеческая цивилизация со времён Вольтера (1694 – 1778), просветителя революционных потрясений, закончился или заканчивается, проявил в своём развитии всю свою сущность, исчерпал себя. Это – Вольтеровский зигзаг цивилизации или точнее соблазн. Он однозначно доказал, что человек не может быть устроен на земле вне его духовной природы. Такой прогресс, многое совершив на энтузиазме, в конце концов неизбежно приводит к отрицанию человека. Как от «социальности» человеческое сообщество перейдёт собственно к человеку, к его духовной сущности, от нынешнего потребительства, сказать трудно. Но вопрос стоит именно о духовной природе человека. Сошлюсь на размышления Василия Розанова 1912 года. В его размышлениях противопоставлены «Революция» и «Церковь». Но совершенно очевидно, это противопоставлены природная, социальная и духовная природа человека: «Вестник Европы» нужен 6000 своих подписчиков, Евангелие было необходимо человечеству двадцать веков, каждому в человечестве… Через 1900 лет после Христа, из проповедников слова Его (священники) все же на десять – один порядочный и на сто – один очень порядочный. Всё же через 1900 лет попадаются изумительные. Тогда как через 50 лет после Герцена, который был тщеславен, честолюбив и вообще с недостатками, нет ни одной такой же (как Герцен) т.е. довольно несовершенной фигуры. Это – Революция, то – Церковь. Как же не сказать, что она вечнее, устойчивее, а след., и внутренне ценнее Революции. Что из двух врагов, стоящих друг против друга, – Церковь и Революция, – Церковь идеальнее и возвышеннее. Что будет с Герценом через 1900 лет? – с Вольтером и Руссо, родителями Революции? Ужаснется тысяче девятисот годам самый пламенный последователь их и воскликнет:
– Ещё бы какой срок взяли!!! – через 1900 лет, может быть, и Франции не будет, может быть, и Европа превратится в то, чем была «Атлантида», и вообще на такой срок – нечего загадывать… «Всё переменится» – самое имя «революции» станет смешно, едва припоминаемо, и припоминаемо как «плытие Приама в Лациум» от царицы Дидоны (положим).
Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, истово говорит возгласы, с чувством необыкновенной реальности, «как бы живое ещё». А дьякон громогласно речет: «Вон-мем». Дьякон «речет» с такой силой, что стёкла в окнах дрожат: как Вольтер – в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840 году, когда его уже ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о «всех их», что они суть снедь мышей.
Лет на 300 хватит, но не больше – пара, пыла, смысла (вот он Вольтеровский зигзаг – П.Т.)… Что сказал Вольтер дорогого человечеству на все дни жизни и истории его? Не придумаете, не бросится в ум. А Христос: «блаженны изгнанные правды ради». Не просто «они хорошо делают» или «нужно любить правду»… Евангелие бессрочно. А всё другое срочно – вот в чём дело».
По В. Розанову, Вольтеровский соблазн или зигзаг завершится не скоро. Но он ведь твёрдо и не настаивал на таком сроке. По его же шкале ценностей поверим Евангелию: «Не пройдёт род сей, как все сие будет» (Евангелие от Матфея, 24:84). То есть «все сие» произойдёт в нашем роде, в нашем поколении… А то, что этот соблазн столь обострился на наших глазах, принимая самые бесцеремонные формы, является верным признаком того, что он действительно заканчивается и развязка близка.
Но как сильно это Вольтеровское поветрие захватило умы и души людей у нас, в России. Со времён спора В. Белинского с Н. Гоголем (1847 г.) до сего дня во всей неизменности. Екатерина Великая разобралась с этим поветрием куда как быстрее писателей. Примечательно, что Н. Гоголь ещё полагал, что это поветрие приходит для того, чтобы лучше истолковать учение Христа: «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все… Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь! Вольтера называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был ещё в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодёжь».
Н. Гоголь оказался прав, но правота его кажется, ничего не изменила в умах и душах его соотечественников и столько времени спустя: «Нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях легкими журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина и не замечают того, как уродливо изображена у них жизнь… Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства» (Н. Гоголь).
Влияние Вольтера сказывалось в том, что оно формировало какой-то поразительный комплекс воззрений, предполагающий конечность познания, а значит тормозящий всякое познание и развитие. Как у П. Чаадаева – «тайна времени», которая была ему, конечно же, «известна», и он горел пламенным желанием посвятить в неё А. Пушкина. О том же, что его горделивая самонадеянность оказалась ничтожной, а «тайна времени» – ложной, что в его воззрениях был принципиальный изъян свидетельствует отсутствие хоть какого-то предвидения. А ведь сила ума человека проявляется именно в этом.
В письме А. Пушкину от 7 июля 1831 года он пишет: «Спора нет, бури и бедствия ещё грозят нам, но уже не из слёз народов возникнут те блага, которые им суждено получить: отныне будут лишь случайные войны, несколько бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и убийствам». О, знал бы он, какие «смешные войны» произойдут после него, какие уже идут и какие грядут… На такую фундаментальную, но закономерную опрометчивость можно сказать разве что словами Н. Страхова: «Подчинение чужой истории, чужой духовной жизни, как, например, сделал Чаадаев, не есть выход, а только продолжение той же нелепости, того же разрыва». А по каким ещё критериям оценивается ум человеческий? По внешнему виду и манерам что ли…
И – в том же письме П. Чаадаев наставлял А. Пушкина: «Мы не думали, что Европа готова снова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию». Это – прямо-таки словно сегодня писано. Но даже в такой ситуации, когда наши войска были уже в Париже, вопреки всякой логике, его претензии были не к коварной Европе, а к нашему «несовершенству»: «Мы в сущности – не более как молодые выскочки и что мы ещё не внесли никакой лепты в общую сокровищницу народов». Называется эта опрометчивость его последователями, нашими «шестидесятниками», патриотизмом «с открытыми глазами»… Но ведь хорошо известно, что там, где патриотизму начинают подбирать эпитеты, типа – «просвещённый», «непросвещённый» – он в большой опасности, так как это есть форма отрицания его.
На это беспричинное уничижение России А. Пушкин, как известно ответил знаменитым письмом от 19 октября 1836 года: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться… Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю «кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». Но сколько было предпринято усилий в том числе и нашими «шестидесятниками», для того, чтобы вопреки очевидным фактам выставить П. Чаадаева наставником и учителем А. Пушкина, хотя всё обстояло как раз наоборот. Правда, П. Чаадаев оказался учеником нестарательным.
«О, либералы-фавориты
Эпохи каждой и любой…»
Книга Станислава Куняева «К предательству таинственная страсть» не могла не появиться. Кто-то должен был создать такую справедливую духовно-мировоззренческую картину литературы и литературной жизни второй половины ХХ века и начала нашего века. Выбор пал на него. По праву талантливого поэта, глубокого и осведомлённого мыслителя, находящегося в эпицентре этих противостояний и противоборств, всю жизнь отстаивавшего русскую литературу. И безусловно обладающего мужеством.
И вот после всего, происшедшего со страной и с нами, с русской литературой и общественной мыслью, когда «гуманистический туман» (А. Блок) от былых нешуточных сражений рассеялся и обнажились их печальные результаты, когда стало абсолютно ясно, кто был прав, а кто вольно или невольно повинен в происшедшем, настало время ответить на вопрос – что произошло и что же победило? Тем более, что за нестерпимым информационным шумом это далеко не очевидно в общественном сознании.
Казалось, что теперь, после всего «шестидесятники» и их последователи, если не повинятся, не покаются, то забьются в свои идеологические поры, или хотя бы виновато промолчат. Произошло же иное, даже прямо противоположное. «Шестидесятники» и их последователи как ни в чём не бывало, словно они здесь абсолютно не при чём, опрометчиво продолжили своё нашествие на народное самосознание, на русскую литературу, на здравый смысл, не проявляя никакой мудрости или хотя бы понятной человеческой осмотрительности. Опрометчиво потому, что их идеи умерли, доказав свою полную несостоятельность в практических делах. Доставать снова жупел этих идей на свет Божий, значит снова отравлять сознание и души людей, перекрывая какое бы то ни было народное и государственное развитие, вызывая законный гнев и протест людей здравомыслящих, устоявших, в отличие от них, в этой брани духовной.
Но «шестидесятники» не покаялись за свои вольные и невольные грехи, за свою непрозорливость, за то, что поверили в такие «ценности», которые ни к чему кроме катастрофы привести и не могли, так как в основе своей содержали фундаментальный изъян неполноты восприятия мира. Не покаялись за то, что свою неистовость и нетерпимость, за то, что нещадно мордовали народ этими своими «ценностями». Не покаялись, наконец, за народную кровь, пролитую по их вине… А последователи их с новой энергией продолжают теперь их несостоятельное и опасное для всех нас дело.
Как понятно это вопрос уже не к самим «шестидесятникам». Человек, как правило, не изменяется, а если изменяется, то очень редко. Это вопрос к власти, к тем её структурам, которые отвечают за состояние культуры и литературы в обществе. Можно же, наконец, привлекать в сферу культуры и образования не идеологизированных до невменяемости, а людей действительно образованных, помня о том, что школьный учитель одерживает победу на поле брани…
То, что не сделали сами «шестидесятники», либералы от литературы, не проанализировав происшедшее, то сделал Станислав Куняев. Он вынес им суровый, но справедливый приговор: «Вклад известных писателей-«шестидесятников» в разрушение советского общества и государства был куда более значителен, нежели вклад научных работников, технарей, интеллектуалов, актёров, военных людей, партийных функционеров и прочих персонажей культурной жизни». И его объективная картина куда как непохожа на то, что мнили и думали о себе «шестидесятники».
Хотя надо отдать должное наиболее осмотрительным из них, ужаснувшимся тому, что они наделали, натворили, и не убоясь обструкции, высказали неприглядную роль «шестидесятников» в нашей послевоенной истории. Некоторые из них высказались столь определённо и даже жестко как не отзывались о «шестидесятниках» никакие «консерваторы» и традиционалисты. Помнится небольшая, но примечательная, можно сказать, знаковая статья Станислава Лесневского «Затянувшаяся гордыня» в «Литературной газете» (№27, 1995), моего давнего знакомого, ещё с 1970-х годов, в наших блужданиях по Блоковским местам Подмосковья, когда ещё не была восстановлена усадьба в Шахматово и не был создан Музей-заповедник А.А. Блока. Станислав Стефанович предпослал тогда к своей статье два эпиграфа: «Печально я гляжу на наше поколенье» М. Лермонтов. «Я горжусь нашим поколеньем» Евг. Евтушенко. И задался неудобным, а по сути, убийственным для «шестидесятников» вопросом: «А есть ли чем гордиться?»: «Защищая имя и честь поэта-фронтовика, младший собрат в длинном стихотворении упрямо, с вызовом повторяет не один раз: «Человек, написавший «Коммунисты, вперёд!..». И выходит как-то двусмысленно, дважды двусмысленно. Получается, так же, что Евг. Евтушенко и сегодня готов твердить под красным знаменем: «Коммунисты вперёд!» … Мне по-прежнему дороги мои друзья-«шестидесятники», но не побоимся правды… Египетские пирамиды стоят, а «Братская ГЭС» Евг. Евтушенко, спорившая с ними, в общем, рухнула, как и рухнул и «Казанский университет» (того же автора), и «Лонжюмо» Андрея Вознесенского, и «Двести десять шагов» (или сколько там?) Роберта Рождественского и «комиссары в пыльных шлемах» Булата Окуджавы… Не в том дело, что все эти произведения совершенно невозможно перечитать или произнести, что все они на глазах потонули в Лете (для новых поколений). Ведь «шестидесятники» создали и другие, более подлинные вещи. Но рухнул сам фундамент мировоззрения «шестидесятников». И что же? Прочувствовано ли это кем-нибудь из наиболее звонких запевал поколения? Осознано ли?.. …Но осознайте, что это наши строки держат мёртвое тело и сердце страны!» Отметим, что писалось это вовремя, по сути, по горячим следам трагических событий в стране. Юлий Даниэль в стихотворении «Либералам» и вовсе дал «шестидесятникам» уничтожающую характеристику:
Отменно мыты, гладко бриты,
И не заношено бельё…
О, либералы – сибариты
Оплот мой, логово моё!
…И в меру биты, вдоволь сыты,
Мы так рвались в бескровный бой!
О, либералы – фавориты
Эпохи каждой и любой.
…О, либералы – паразиты
На гноище беды людской.
Согласимся, что далеко не каждый человек во имя правды способен на такой пересмотр своего «оплота» и «логова», тем самым винясь за свою непрозорливость: «Ну а если все же греюсь/ возле вашего огня,/ значит совесть или смелость/ не в порядке у меня» (Владимир Корнилов). Это ведь не просто признание, а личная трагедия. И боль – за всю непоправимость происшедшего, как в стихах Лидии Григорьевой из Лондона: «Нет, чтобы с горя мне околеть бы…/ Что ж я ношусь над землёю как ведьма, / в поисках стойбища и пристанища,/ видимо, всё же я пройда та ещё…» («Литературная газета», № 32, 2015).
Деятельность «шестидесятников» и не только, собственно, творческая, напоминает извечное вавилонское строительство. Вавилонское строительство же является непрекращающимся. Оно только изменяет свои формы. Книга Бытия (11:1-9) допускает говорить о нём в современных понятиях. Но Вавилон делается блудницею, «жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». И поражает в первую очередь образное представление, художество: «И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе» (Откровение святого Иоанна Богослова, (18: 22). Важно отметить, что с пресечением художества, литературы прекращается и «шум от жерновов», то есть всякая хозяйственная, как сказали бы сегодня, экономическая жизнь… В «шестидесятничестве» мы и видим пример такого вавилонского строительства со всеми, неизбежными из него последствиями.
Теперь, ввиду всего происшедшего ясно, что в этом противостоянии и противоборстве с «шестидесятниками» прав оказался Станислав Куняев, «Кто скажет нам, что жить мы не умели/ Бездушные и праздные умы» (А. Фет)… …Он исполнил свою писательскую миссию и свой человеческий долг. Но последствия нашествия «шестидесятников» оказались слишком уж трагичными и труднопоправимыми, а здравое понимание русской литературы и жизни не получило своего преобладания в обществе, старательно контролируемого…
После «сумасшедшей популярности» и бесконечной стихотворной публицистики Е. Евтушенко, умирающей уже при своём изготовлении; после расчётливого буйства и «всемирной известности» А. Солженицына русская литература утратила не только свою глубину и величие, но и общественное значение. Кажется, что в тине «рынка» она утратила и саму свою природу, превратившись в какое-то декларативное антисоциальное явление. Стала всеобщей, стойко сохраняемая уверенность в том, что «изготовить руками» можно всё что угодно, были бы только деньги, выдав за литературу то, что ею не является, в угоду неким «высшим» соображениям, а на деле оказалось – «низшим»; что без талантов можно обойтись, их может заменить пропаганда и рукотворные кумиры; что собственно писательские тексты необязательны. Для лицедейства и позёрства, «шумихи и успеха» достаточно и сомнительных «репутаций», далёких от истины. После них русская литература вступила в какую-то серую, тусклую полосу злого обличительства, выход из которой пока трудно представить.
Вместе с «шестидесятниками» умерла и их поэзия, чего с истинной поэзией не происходит. За исключением может быть, только Беллы Ахмадулиной. Не случайно именно её строчка стала для их характеристики убийственно точной: «К предательству таинственная страсть…» И всё бы ничего, в конце концов и такие стихи были нужны людям определённого интеллектуального уровня и духовного развития. Справедливо сказала А. Ахматова о стихах Е. Евтушенко, что это не стихи, а эстрадные номера. Но всей мощью пропаганды такие поэты, не стихи даже, выставлялись как продолжение русской литературной традиции от А. Пушкина до А. Блока. В то время как это направление литературы было вне этой литературной традиции. Оно, идущее от революционных демократов, Н. Добролюбова и Д. Писарева, боролось с истинной литературой, не находя в ней практичности и утилитарности. С той литературой, которая и составила русскую литературу. Грех их был в этой подмене, в этой порче и литературы, и сознания, и вкуса, и нравственности… хотелось быть непременно первыми, но первые бывают последними…
Невозможно теперь вообразить нормального, здравого человека, знающего и любящего русскую литературу, восхищающегося писаниями А. Солженицына. Скажу словами либерала с репутацией «патриота» В. Лихоносова: «Всё-таки он какой-то… советский писатель. Писатель-математик. Он единственный в русской литературе классик, которому льстят из-за политики и из-за этой же политики скрывают друг от друга, что романы его читать невозможно – там никого нет, кроме него, стреляющего в большевиков публицистикой, и такого же однобокого как они» («Тоска-кручина», Краснодар, 1996). И чем дальше, тем никчёмнее будут эти писания. Эти неумные, наивные и лукавые инструкции по «обустройству» России, которым мощью пропагандистских средств был придан статус неких откровений, инструкции, которые изготовлялись не для обустройства страны, а для её разрушения. Сколько не выпускай его собраний сочинений и не рассылай их по библиотекам, где они будут стоять нетронутыми рядом с трудами А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока, М. Булгакова, М. Шолохова… Неужто таким балаганом может закончиться великая русская литература, берущая своё начало с ХII века, со «Слова о полку Игореве»? Не хочется и не можется в это верить…
Не знаю, опровергал ли кто факт, приводимый, добросовестным литературоведом Н.М. Федем (в нынешнем «открытом» информационном пространстве отследить достоверно это невозможно) в его книге «Опавшие листья»: «Нашумевший в своё время «Архипелаг ГУЛАГ», вышедший в свет за его подписью, как поведал в своих мемуарах дипломат и разведчик Бим, – плод американских спецслужб: «Когда мои сотрудники в Москве принесли мне ворох неопрятных листов за подписью Солженицына, я вначале не знал, что делать с этим шизофреническим бредом. Когда же я засадил за редактирование и доработку этих «материалов» десяток талантливых и опытных редакторов, я получил произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Мастерски проведённая по всему миру реклама этой книги нанесла мощный удар по диктатуре пролетариата в СССР» (М., «Советский писатель», 2000). Как это соотносится теперь с тем, что нашему народу объявлено и уже идёт полным ходом уничтожение? Именно это уготовлял он, А. Солженицын. Политическая трескотня об освобождении от «советского тоталитаризма» – это для самых уж наивных, доверчивых и упрощённых. И эта, такая неприглядная деятельность должна быть теперь «увековечена» памятниками по всей России? Разве не слышен всенародный протест против таких «памятников»?
«Шестидесятники» приближали как могли вовсе не освобождение народу от «советского тоталитаризма», а новую беду, исход которой, судя по проводимой в стране культурной политике, пока неочевиден. По какой логике, зачем и с какой целью такую деятельность их можно продолжать и «увековечивать»? Цель тут единственная: довести их дело, вне зависимости от того, что они мнят о себе, до конца, до нашей государственной и народной гибели. И их гибели тоже. Довести до того, чтобы на этот раз уже не было никакой возможности и даже надежды на новое возрождение России…
И эта говоря словами В. Розанова, «ошибка узкого ума» должна пребывать в обществе в качестве некоего интеллектуального эталона и откровения? Когда лидеры западных стран высказывают такое, что не согласуется не только с национальными интересами, но и со здравым смыслом, мы усматриваем в этом вырождение европейской цивилизации. Но судя по нашему мировоззренческому и духовному состоянию, должны признать, что это явление мировое, в том числе и наше, как «части Европы». Иначе на каком основании, с таким идеологическим обеспечением по «обустройству России», а это пока последнее официальное слово по её «обустройству», мы рассчитываем на победу? Неужто опыт начала Великой Отечественной войны с проводимой тогда культурной политикой, нам ничего не говорит… Как духовная демобилизация общества и народа согласуется с уже реальной военной мобилизацией на объявленную нам войну? Правильная патриотическая риторика без конкретных действий на этом поприще только усугубляет напряжение в обществе. Разве это не та же европейская болезнь нашей западнической элиты?.. С этого, прежде всего, должна была бы начаться мобилизация общества и народа на войну за само своё существование.
Мы не знаем, как можно остановить разрушение России, защитить её в уже идущей против нас войне, сохраняя прежнюю разрушительную идеологию, которая и привела к такому катастрофическому положению…
В день начала массированных бомбардировок украинской инфраструктуры 10 октября 2022 г. в Москве, в конференцзале Дома русского зарубежья в рамках семинара «Труды и дни Александра Солженицына» состоялась презентация выставки «Москва в «Красном колесе» 1914-1917». В самый раз изданное – переизданное, читанное-перечитанное, уже давно «увековеченное», снова «увековечивать» именно сейчас. Революционное сознание в обществе, угасающее на глазах, заслоняемое уже совсем иными трагедиями, потрясениями и переживаниями, надо поддерживать постоянно. «Красное колесо» должно кататься по России бесконечно. Уже на фоне идущей войны, угрозы самому нашему народному и государственному существованию. Если ранее целили в «коммунизм», а попали в Россию, то теперь-то куда тем самым целят? «Идол»-то уже, вроде бы, давно повержен. Или под «идолом» как разумели, так и разумеют саму Россию? И это – то сознание, а точнее – те заморочки, с которыми мы должны уцелеть и победить? Нет, это и есть мировоззренческое обеспечение нашего поражения. Уже однажды происшедшего… А иначе, зачем эта «ошибка узкого ума», как ни в чём не бывало, снова навязывается общественному сознанию? Уже ведь по ней, по этой идеологии, «обустроили Россию» так, что и до сих пор никак не удаётся собрать её осколки… И надо снова начинать то же самое?
Выдающийся критик, литератор Юрий Селезнёв на памятной дискуссии «Классика и мы» сорок пять лет назад с тревогой говорил о том, что Третья мировая война против России началась. Как видим, он оказался, к сожалению, прав. Но неужто и почти полувека недостаточно было для того, чтобы это хоть как-то уяснилось в общественном сознании?.. Ну ладно, за эти годы много чего произошло в стране, было и беззаконие либерально-криминальной революции. Но теперь-то, когда уже идёт война, теперь-то что значит всё ещё продолжающаяся духовная демобилизация с помощью тех же «деятелей культуры», которые идеологически обеспечивали крушение страны? Ответа на этот вопрос не обойти, что подтверждает весь исторический опыт, и особенно опыт ХХ века…
Что говорить о литературе, если лакейский и пошлейший американизм и западничество въелись в сознание людей уже и на бытовом уровне. Разумеется, не сами по себе, а в результате долгой и методичной пропаганды. В регионе, на Кубани, а не в столице покупаю бутылку лимонада, произведённую Ставропольским пивзаводом. Называется он «Лимонадный Джо». На этикетке – похабная самодовольная рожа, иначе не скажешь, американского ковбоя. В руках он держит, нет, не кольты, а бутылки лимонада. Ракетные кольты он поставляет на Украину от которых гибнут наши офицеры и солдаты. Но это же надо было так свернуть сознание людей, чтобы глядя на эту рожу, они считали, что это «круто»… Произведено это в том крае, откуда вышел лидер страны, столь прозападный, что за пустые лестные слова сдал противнику не то что национальные интересы, а страну. Там же покупаю тройной одеколон на французский лад: «О-де-колонъ от Наполеона». В красочной виньетке – сам Наполеон. Ну почему так почитают «одного из самых вредных людей во всей истории человечества» (Д. Писарев)? Уже ведь «в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир», как писал А. Пушкин в стихотворении «Клеветникам России». И ненавидят нас за то, что «мы не признали наглой воли того, под кем дрожали» они. Теперь, оказывается признали, что ли? Кто и почему так настойчиво пытается убедить россиян в том, что теперь – это их кумир? Ах да, такой одеколон выпускала фирма в ХIХ веке, ныне реанимированная. Но мы-то теперь знаем, что отсутствие «нашей умственной и нравственной самостоятельности» (Ап. Григорьев) заканчивается катастрофой страны и гибелью миллионов людей… Или так, исподволь нам уготовляется то же самое? Не естественнее ли для россиянина видеть одеколон, скажем, «Бородино», с портретом М.И. Кутузова?.. Неужто с образом Наполеона в душе наши воины отразят теперь агрессию Запада на Украине…
Поражает то, на каком упрощённом уровне остаётся осмысление этого духовно-мировоззренческого противостояния в нашем обществе. Наше бедное сознание «разрешая» эту главную дилемму бытия, рождает, кажется, одну единственную мысль: надо объединяться и соединяться… И это является абсолютной интеллектуальной несостоятельностью. Так как никакого соединения, объединения в нечто единое и целое, как предполагали «шестидесятники», быть не может. Это невозможно по самой природе человеческой цивилизации. Ведь человечество разделено изначально и существует в двух видах цивилизации: каинитской и сифской; разделено на последователей Каина, снявшего с себя образ Божий, и на сынов Божиих, потомков Сифа, – это верное Богу человечество. И это неустранимо. Вне зависимости от того, знаем ли мы об этом или нет, независимо от того, в какие игрушки играем – о классовой борьбе или в либеральные. Видимо, потому, что каждый человек, приходящий в этот мир, несёт в себе лишь потенциальную возможность стать человеком, ему только предстоит вочеловечиться, то есть сохранить свою духовную сущность в результате брани духовной, преодолевая искушения. И далеко не все справляются с этой трудной задачей жизни: «Много нас, свободных, юных, статных, умирает не любя…» (А. Блок).
Призывы же к некоему объединению, внешне привлекательному, но невозможному, уже содержали в себе семена глобализации, вавилонского строительства, то есть устройства человеческого сообщества по образцу тюрьмы или казармы. Как, к примеру, демагогический призыв Е. Евтушенко на знаменитой дискуссии 1977 года «Классики и мы»: «Нам нужны дискуссии соединительные, которые бы вместе всех сплотили нас на базе нашего общего наследия». Но такое соединение невозможно, так как оно предполагает, что кто-то должен отказаться от своих воззрений, как от заблуждений, от своей ментальности и образа жизни. Предполагает, что истины, вроде бы и нет, а есть только «мнение». Речь может идти только о сосуществовании. Но на это у «шестидесятников» не хватило ни ума, ни широты души, ни понятной человеческой осмотрительности.
Доказательством того, что никакое объединение невозможно и что тирады Е. Евтушенко были пустословием, является то, что как только властная узда в стране была ослаблена, он согласно своим революционным воззрениям, захватил власть в Союзе писателей: «Через несколько дней после августовской провокации в Союз писателей России пришла толпа – некий 267-й «батальон нац.гварции». На второй этаж из неё поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Москвы Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается, как организация, «идеологически обеспечившая путч». Я тогда разорвал эту бумагу напополам и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо Гавриилу Попову с требованием закрыть «бондаревско-прохановский Союз писателей. Сам автор письма уже восседал в бывшем кабинете Георгия Маркова на улице Воровского» (Станислав Куняев). Таким вот на деле оказалось «соединение»…
Но не умея управлять Союзом писателей и не намереваясь это делать, он просто разрушил Союз писателей и убежал в США. Из этого следует, что целью такой революционной ментальности является именно только разрушение и ничего более. Никакое соединение невозможно, так как мир изначально устроен иначе. Он – един в своём многообразии, но никак не в единообразии. И это понимали пророки: «Они соединятся чрез семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Книга пророка Даниила, 2; 43). Только слабые тяготятся своей природой, пытаясь её изменить, не справляясь со своей ношей, с присущим человеку «жизни тяготеньем» (М. Лермонтов), нередко выдавая его за «недуг бытия», который, стало быть, надо лечить. В действительной жизни всё обстоит иначе: «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным, не обрезайся» (Послание к ефесянам святого апостола Павла, 7; 18). То есть человек должен и обязан оставаться человеком, самим собой. Действительно «всё забытое, ветхозаветное вдруг всплывает из доисторической вавилонской бездны» (Ст. Куняев). Всплывает потому, что остаётся неизменным и незыблемым, так как «узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве» (А. Блок). Никакое соединение немыслимо и невозможно. Разве не об этом в стихах Ст. Куняева: «И нас без вас, и вас без нас убудет…».
Призыв же «шестидесятников» к невозможному соединению вовсе не является чем-то неведомым и новым. Такой призыв звучит всегда, во все эпохи, правда, изменяя свои формы, но не изменяя своей сути. Вспомним хотя бы «белый синтез» З. Гиппиус где должно соединиться язычество с «новым» христианством, Христос с дьяволом, который она втолковывала молодому А. Блоку уже при первом знакомстве, пытаясь совратить его, и обратить в свою «веру». Не вышлю, не получилось А. Блок сначала возражает ей, а потом пишет в письме от 14 июня 1902 г. из Шахматова, по сути указывая на то, что такой «синтез» уже есть в «Откровении святого Иоанна Богослова»: «Вы говорили о некотором «белом синтезе», долженствующем сочетать и «очистить» (приблизительно): эстетику и этику, эрос и «влюблённость», язычество и «старое» христианство. …Спорил же я с Вами только относительно возможной «реальности» этого сочетания, потому что мне кажется, что оно не только и до сих пор составляет «чистую возможность», но и конечные пути к нему ещё вполне скрыты от нашей «логики». …Вы, если я понял до конца, считаете эти пути доступными нашему логическому сознанию, даже настолько, что мы можем двигаться по ним… Мне иногда кажется, что рядом с этим более «реальным» синтезом… существует и уже теперь даёт о себе знать во внутреннем откровении, но отнюдь не логически, иной – и уже окончательный «апокалипсический» синтез» … всякий сколько-нибудь реальный синтез есть «человеческий» угол зрения». И уточняет в письме от 2 августа того же года: «Ваши слова о двух синтезах примирительны; но я не всегда могу принять их. Иногда из-за логической гармонии смотрит мне в лицо безмирное отрицание». То есть молодой поэт понимал, что такой «белый синтез» – это то «единство», которое неизбежно доходит до соединения Бога и сатаны… А в письме матери от 22 ноября 1910 года сетует на Мережковских, на их религиозно-философскую секту и уже не на шутку спорит с ними, до прямого конфликта: «Смешивают всё в одну кучу (религию, искусство, политику и т.д.) и предаются истерике. Мережковскому мне просто пришлось прочесть нотацию. Они уже больше, кажется, ничего не чувствуют и не понимают».
Такое объединение и смешение – абсолютный догмат и наших «шестидесятников», вынырнувший из небытия в неизменности. Из этого следует, что не о невозможном соединении надо думать и печалиться, а о естественном соотношении противоположных воззрений, чтобы никакое из них не получало абсолютного преобладания… А это уже дело рук человеческих. Истинный поэт постигает нередко те или иные аспекты жизни безсознательно. Мне кажется, что именно так произошло в стихотворении Станислава Куняева «Реставрировать церкви не надо», – об этом соотношении: «Совершилась житейская сделка/ Между взглядами разных систем…». Но сделка есть сделка, она – не устойчива. И вот в наше время вновь оказалась нарушенной. Под абсолютно неумную догматическую риторику «шестидесятников», что «патриоты и космополиты – / разногласия забыв навсегда» сольются в некое немыслимое братство. При этом словно не замечается, что такое нарушение никому не идёт впрок. Оно – разрушающее по самой своей природе.
На самом деле в жизни всё гораздо сложнее: «Но не так-то просто перейти из одной веры в другую. Это легко получалось у Евтушенко или Вознесенского. Сегодня «Сталин», завтра «Бухарин». Сегодня Маяковский, завтра Ален Гинсберг. Но попытки поменять веру у поэтов более серьёзных, вроде Межирова или Слуцкого, стали трагедии их жизни» (Ст. Куняев). Да и понятно, ведь смена веры равносильна, как правило, переливанию крови, не подходящей по группе. Может быть, за редким исключением. Как, к примеру, в стихах Павла Антокольского: «Я много видел счастья в бурной/ И удивительной стране. / Она – что хорошо, что дурно/ Не сразу втолковала мне…» Только эти-то «шестидесятники» – Евтушенко, Вознесенский и прочие – никуда не переходили, оставаясь людьми с радикальным, революционным сознанием. Верные заветам своих дедов, реанимировали «революционные ценности»…
«Патриоты и космополиты» никогда не соединятся, «распри забыв навсегда», как бы внешне это красиво не звучало. Это и невозможно и не нужно, так как такое соединение такое вавилонское строительство в конце концов приводит к ненужности самого человека: «Великому всемирному «прогрессивному» делу вавилонской стройки ограничением стал сам человек… Человек – вот цель … «Сотворим себе имя» – означает желание изменить свою человеческую природу… Человека надо переделать, человека надо изменить» (Е. Авдеенко, «Тема «Каин» в современном мире», М. «Классик», 2014). Имя человеку уже дано – человек. И всякие попытки изменить имя и воспитать «нового человека» влекут за собой изменение его сущности. Кстати, отсюда проистекают те трансгендерные «проблемы», в которых корчится сегодня цивилизованный» мир. То есть, «проблемы» эти существуют изначально и всегда, но они грозят гибелью человеческой цивилизации, когда получают абсолютное преобладание. Отсюда следует, что регулировать и поправлять соотношение видов цивилизации дело вполне человеческое и рукотворное. Невозможно изменить природу человека, ибо «природа человека вечна» (В. Розанов) и это дело – Божеское, обустройство же его на земле – дело уже его самого. Но так часто человек впадает в соблазн переделать самого себя, полагая, что это – благо… Результат-то такого адского действа он узнает только потом, когда что-либо поправить уже невозможно…
«Ошибка узкого ума…»
Этот экскурс в русскую литературу здесь просто необходим, дабы прояснить обычные, традиционные представления о ней, которые оказались загромождёнными, заслонёнными какими угодно соображениями и устремлениями вульгарного толка. Это необходимо и для того, чтобы понять какую традицию в ней защищает Станислав Куняев. Это прежде всего – борьба за литературу, за народное самосознание, за народ, а значит – за Россию. Именно в такой нерасторжимой последовательности. Он весь выходит из этой традиции. Хотя вместе с тем глубоко и последовательно, как мало кто, защищает советский период истории, как закономерный этап нашей судьбы. Как уникальный период в нашей истории. И чем далее, тем это будет проявляться всё яснее.
Станислав Куняев защищает Россию в той мере, в какой защищает литературу, то есть народное самосознание. А это и есть для писателя главным. И тут у него особое положение в нынешней литературе. Ведь у нас немало писателей-патриотов, говорю именно о писателях, для которых литература – лишь средство в делах якобы более важных. Полагая, что высокая идеологическая или даже политическая цель это оправдывает. И, как правило, ни политики не делают, ни литературы. Всё это – приснопамятная «добролюбовщина» с её убеждением, что литература – это «помощница» в более важных делах… И никакие примеры из истории литературы при этом не идут впрок.
А. Блок 5 мая 1917 года заносит в записную книжку: «Если меня спросят, «что я делал во время великой войны», я смогу, однако, ответить, что я делал дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил «Розу и Крест» и писал «Возмездие». Можно добавить, что поэт издавал в это время «Стихи о России», когда уже надвигалось как чума революционное крушение страны, уже явно уготовлялось уничтожение России. Но заметим, он не пишет о том, что он, как и многие, был мобилизован, призван в армию, служил в строительной дружине в Пинских болотах Белоруссии… Не пишет об этом, тоже важном в его жизни событии, перед которым, он даже ездил прощаться с Шахматовым, потому что у поэта – иное служение, стоять на страже духа, внешне и вовсе не броское, но крайне необходимое для народа, с которым решается всё.
Типичным примером «шестидесятника», с полным набором догматов, присущему ему, был безусловно, Е. Евтушенко. Поэтому Станислав Куняев и уделяет столь много внимания духовному диалогу с ним. Е. Евтушенко – редкий случай поэта, который как бы, всецело, занимался не столько собственно творчеством, в котором он был довольно небрежен, сколько популяризацией себя, полагая, что степень известности, быть постоянно на виду – это и есть масштаб дарования поэта. В этом смысле Е. Евтушенко был феноменален. Глеб Горбовский в своё время писал, что популярность его «была да и поныне остаётся, феноменальной», что его отличало «умение быть на виду, то есть – личная жажда популярности, культовое служение ей». Служение не литературе, а популярности… («Феномен поэта, «Аврора», № 9, 1988). «Шестидесятники», а теперь и последователи их всё ещё считают его «главным поэтом эпохи». Критерий-то какой, нелитературный – «главный». Как в какой-то организации. Хотя теперь совершенно очевидно, что «шумиха и успех» проходят быстро, не оставляя никакого следа ни на площадях, ни на эстраде, ни в душах, а «жалкие потуги «шестидесятников», прославляющих стройки коммунизма, окончательно обнаружили свою ничтожность» (Ст. Куняев). И уж тем более выглядят теперь самонадеянными и наивными потуги представить «шестидесятничество», а Е. Евтушенко в особенности, продолжателями русской литературной традиции: «Всё наше «шестидесятничество», все его идеологи и апологеты потратили немало сил и бумаги, чтобы объявить творчество Евтушенко прямым продолжателем и поэтических, и мировоззренческих традиций двух веков – пушкинского «золотого» и блоковского «серебряного» (Ст. Куняев).
Увы, Е. Евтушенко, как и все «шестидесятники», был преемником и продолжателем совсем иной мировоззренческой традиции, той традиции, которой, доведённой до предела, и литература становится ни к чему, которая смотрела на дарования «почти враждебно». Это, конечно, критика революционных демократов после В. Белинского. Об этой традиции убедительно писал В. Розанов: «Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости – вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скудно одарённых в истории» («Почему мы отказываемся от «наследства 60-70-х годов»). Не грубость чувства даже, а «ошибка узкого ума» поражала в них В. Розанова, читать труды которых, нормальному человеку сегодня невозможно: «В этой душевной скудости, и заключалось главное зло»: «С возникновением критики Добролюбова произошло раздвоение нашей культуры: всё слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротив, всё сильное отделилось и пошло самостоятельным путём, собственно, только этот второй поток и образует собой новый фазис в развитии нашей литературы». То есть, совершалась попытка представить литературу собственно без истинной литературы. Ложность почти всех литературных оценок, которые давал Н. Добролюбов поражает и теперь. (Выделено мной – П.Т.)
Словом, «это были дети, которые найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть»: «Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятным и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других» («В чём главный недостаток «наследства 60-70-х годов»?). Но это имело, конечно, не только мировоззренческую, но прежде всего, духовную природу и причину.
Это – очень важное наблюдение В. Розанова: литературное направление в силу определённых мировоззренческих допущений начинает бороться с самой литературой… Это важно отметить теперь потому, что такое «раздвоение нашей литературы» сохранилось потом, по сути, в неизменности, разумеется, изменяя названия. Особенно оно было острым в революционном ХХ веке, во второй его половине – между «шестидесятниками» и традиционалистами, патриотами.
Отстаивая только «социальность» в литературе под предлогом того, что такая литература и отражает «саму жизнь», они отрицали «эстетическую» критику, выразителем которой был Ап. Григорьев. Но это означало отрицание литературы вообще, и ничего более: «В самом деле: что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце концов, что писать плохо лучше, чем хорошо» (В. Розанов). И о них, и о наших «шестидесятниках можно сказать только это: «Им всё казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя, в действительности, они только беднее всех её поняли».
Порча литературы, слова, сознания, нравственности – всего начинается тогда, когда по причине малого таланта писатели начинают вменять литературе практические, утилитарные задачи, которых она не призвана решать по самой своей природе. Внешне это так соблазнительно и привлекательно, что находит многих и многих сторонников. Какая, мол, «связь с жизнью»! Но связь литературы с жизнью такой прямой, вплоть до натурализма, не бывает. На деле это оказывается обманом. В этом ряду – и броская, зацитированная фраза Е. Евтушенко: «Поэт в России – больше чем поэт!» Но «больше», выше поэта – только Бог. В этой же фразе подразумевается, что он «больше» потому, что решает практические дела самой жизни. И эта летучая фраза в устах Е. Евтушенко на самом деле имеет значение прямо противоположное, что поэт «меньше» чем поэт. Видимо, он этого не хотел. По всему видно, что он хотел сказать о самом высоком, а вышло о низком. Утилитарные задачи, вменяемые литературе означают «штурм неба», снизвержение высокого на землю. Это – то, о чём писал Ап. Григорьев А. Майкову 24 октября 1857 года: «Везде папство, т.е. низведение царства Божия на землю, в определённые, прекрасные, но чисто человеческие идеалы». Он прямо-таки взывает в письме к тому же А. Майкову: «Любезные друзья! Антихрист народился в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, веры в человечество как в genus (род – П.Т.) – поймите это, вы все, ознаменованные печатью Христовой, печатью веры в душу, в безграничность жизни, в красоту, в типы – поймите, что даже (о ужас!!!) к церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам остаётся только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займётся улучшенное человечество». И он, который никогда «не отделял мышления от жизни, слова от дела», в письме к Н. Страхову 18 июля 1861 года писал о том какие «вопросы жизни» должен и обязан решать писатель: «Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов – и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это – вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности». Вот, по его же словам, великое дело порядка и правды: «Никакого нового искусства не будет. Оно вечное – как душа человека. Мечты о новом искусстве – судороги истощённого германо-романского мира…». Но утилитаризм в литературе и бездуховность по причине своей упрощённости и поддерживаемые сильными мира сего, заполонили всё. И Ап. Григорьев горько жалуется Н. Страхову в том же письме: «Пока не пропердятся Добролюбовы… истинному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать. Негде!»
Вот результат того «болезненного уклонения», того «страшного переворота, который окончательно содействовал раздвоению направлений русской мысли», о чём писал Ап. Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». Об этом «страшном перевороте» можно сказать разве что словами Н. Страхова: «Эти умы пришли к полному отрицанию русской жизни и, несмотря на то, что уже существовала обманчивая история Карамзина, не усомнились вычеркнуть жизнь русского народа из истории всемирного развития…». Но Боже мой, как они неизменны во все эпохи и времена «эти люди», вплоть до сегодняшнего дня… Но не их сущность, хорошо известная теперь, поражает, а то, что они вновь и вновь получают абсолютное преобладание, способствуя вырождению человека… И, кажется, человеческая цивилизация никаких защитных, спасительных средств против этого мыслительного поветрия и нашествия пока не выработала…
Самое неглубокое, самое упрощённое и даже примитивное направление мысли, так называемое, «социальное» было раздуто до неимоверных масштабов, заполонило все сферы жизни, подавляя, ведя непримиримую борьбу со всем глубоким, духовным, настоящим, как «реакционным». Всю меру горечи от этого мыслительного нашествия испытал на себе Ап. Григорьев, дойдя до трагического ощущения своей «ненужности» и уйдя из жизни в 42 года… А потомки «шестидесятников», такие же плоские, как и их предшественники, всё ещё полагают, что он «убегал от действительности». Такое абсолютное преобладание под видом «прогрессивности» самой примитивной вульгарно-социологической мысли, продолжившейся и в последующие времена, конечно, было преступлением перед человеком и народом, так как тормозило их развитие, пресекло тот самый «прогресс», которым и революционные демократы, и «шестидесятники» клялись: «Суждены им благие порывы, но свершить ничего не дано»…
Но ведь и в нашу эпоху, во весь послевоенный советский период портреты Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, Д. Писарева, ниспровергателей А. Пушкина – во всех школьных классах. А выдающегося критика Ап. Григорьева узнали недавно, собрание сочинений которого выходит только теперь и то тиражом триста экземпляров, что не восполняет потребность даже людей науки, которое им крайне необходимо. А таких как Валериан Майков пока и вовсе не узнали по причине его неиздания. Такое тенденциозное и несправедливое дозирование мысли в обществе, и соотношение её разных направлений – дело ведь вполне рукотворное, а не стихийное, дело человеческое.
Но стоят эти события незримо и прочно, как некие вехи и маяки, указывая путь живым душам. А Пушкин – с назойливыми приставаниями к нему П. Чаадаева со своим мертвым фетишем «тайны времени». Н. Гоголь, обруганный В. Белинским, носящимся с «социальностью» как дурень со ступою или с аршином, которым ничего нельзя измерить. Ф. Достоевский с примирительной речью на открытии памятника А. Пушкину в Москве. И не приехавший на чествования А. Пушкина – Л. Толстой. Молодой А. Блок, выслушивающий сектантские речи З. Гиппиус, которая пыталась вовлечь его в секту с внешне приличным названием: «Религиозно-философское общество». В нашу эпоху – дискуссия «Классика и мы» 1977 года, после десятилетий издевательств над народным сознанием и литературой, когда одно только упоминание о русском тут же намертво накрывалось клеймом «великодержавного шовинизма». Дискуссия «Классика и мы» – уже с нешуточными оргвыводами и тайными доносами властям для расправы над своими оппонентами, с обманчиво лёгким звоном то ли тридцати сребренников в их карманах, то ли ключей от тюремных камер… А дальше – пока тишина. Но не та всегдашняя, «вековая», но эта зловещая, которая громче и опаснее всякого шума…
На страже литературы
Поражает осведомлённость Станислава Куняева, которая, как понятно, достигается только неустанным трудом. И это трудолюбие, помноженное на его открытость и гражданскую смелость, позволяет ему, как говорили ранее, – стоять на страже. На страже литературы и тех незыблемых духовных ценностей, которые не могут быть подвергнуты сомнению ни при каких обстоятельствах.
Кажется, он знает всё, хотя это и невозможно. Не только литературные факты, собственно тексты, но и факты литературной жизни, без которых трудно понять дух эпохи. И делает это не самоцельно, но пытаясь «восстановить некоторые особенности советской цивилизации», то есть историческую правду. Не в пример догматическим, до предела упрощённым и даже шулерским характеристикам советского периода истории, даваемыми «шестидесятниками». Типа – «мы семьдесят лет падали», «исторический тупик», «черная дыра». Если и падали, то, конечно, не семьдесят лет. И великая держава – не «чёрная дыра», в которой была необходимая мера свободы для самореализации не только собственно «шестидесятников», но и для народа. Не в пример России либеральной. Бодряческая риторика тут не в счёт. Это, по сути, – отказ осмысления «шестидесятниками» самого трудного в нашей истории ХХ века, то есть, обыкновенная интеллектуальная несостоятельность… Сошлюсь только на некоторые, но очень уж характерные факты.
Последовательно отстаивая и защищая творчество Осипа Мандельштама, Станислав Куняев делает существеннейшее уточнение: «Ссылаясь на какое-то зарубежное издание поэта, Колодный, цитируя последнюю строчку стихотворения «Если б меня наши враги взяли», – совершает в сущности подлог и взамен подлинного текста: «будет будить разум и жизнь Сталин» – цитирует «губить»… Но при такой, ни на чём не основанной кроме «глубоких убеждений», недопустимой «правке» классического стихотворения О. Мандельштама, смысл его изменяется на прямо противоположный:
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой – Ленин.
И на земле, что избежит тленья,
Будет губить разум и жизнь – Сталин.
«Будить» и «губить» – это ведь противоположные смыслы. Так классика «исправляется» в угоду «нужной» идеологии, точнее – догматике. В данном случае – либеральной, антисталинской, а, по сути, – антигосударственной. Было и остаётся совершенно ясным, что «бороться надо не против сложившегося в России строя, а за Россию» (Ст. Куняев). Тем более строя, так трудно, с такими большими жертвами и потерями сложившегося… И такое текстологическое уточнение Ст. Куняева крайне необходимо и своевременно. Попадается сборник стихотворений Осипа Мандельштама «Автопортрет», вышедший в серии «Из поэтического наследия» (М., «Центр-100», 1996), в котором строчка «Будет будить разум и жизнь Сталин» исправлена на «будет губить». Такое вот ратование за сохранность поэтического наследия. Так неправда пошла гулять по свету стотысячным тиражом. Но ведь к такому обману прибегают только в деле неправедном…
Согласно либерал-революционной догматике «шестидесятников» Сталин может только «губить» и ни в коем разе не «будить», да ещё главное – «разум и жизнь». Ну под его руководством проведена индустриализация разрушенной революционным крушением страны, ну выиграна Великая война, ну разгромили фашизм… Но это, по логике сторонников перманентной, нескончаемой революции – сущая малость в сравнении с его «тиранией». Но ведь строилась невиданно грандиозная, пока неведомая государственность, её новый тип. В разорённой стране, в условиях непрекращающейся революционной борьбы, без жёсткости и даже жестокости обойтись было невозможно. И «Сталин был адекватен породившего его историческому процессу» (А. Зиновьев). Ретивые революционеры, сами спровоцировавшие эту жестокость, продолжали своё «святое» дело разрушения, не вполне понимая смысл этого строительства и вообще происходящего. И что время революционного разрушения прошло. А происходила реставрация, то есть строительство новой государственности, неизбежная после всякой революции. Это – уж закон бытия. Но в таком случае пенять надо на историческую закономерность и неизбежность, а не на ту или иную историческую личность… И потом такое положение сложилось ведь при активнейшем участии тех, кто «свободою горел». Ну а коль в результате такого «горения» неотвратимо вышло то, чего они не ожидали, то это свидетельствует об их непрозорливости… «Обещают им свободу, будучи сами рабами тления…» (Первое соборное послание св. апостола Петра, 2; 19). И теперь задним числом «исправлять» что-либо с помощью такой шкодливой правки и невозможно, и недопустимо. Опять «великое» выдаётся за малое», тем самым нарушая иерархию ценностей, не различая добра и зла…
Или – кто помнит теперь публикацию в либеральном «Новом мире» (№ 9, 1987) стихотворении одного из самых выдающихся поэтов советской эпохи Ярослава Смелякова, среди которых было и это – «Курсистка». Но у Я. Смелякова это стихотворение названо иначе. Да, некорректным словом, но точно характеризующим тип неистовой революционерки, фурии революции:
Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.
…Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена –
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.
Неопрятна как истинный гений,
И бледна как пророк взаперти, –
Никому никаких снисхождений
Никогда у неё не найти.
Отредактировано, «исправлено» так:
Казематы жандармского сыска
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны.
Но кто имеет право «исправлять» классику? Ах да, из соображений «высших» – идеологических и корпоративных, в интересах «малого круга». Хотелось и Я. Смелякова, человека трудной судьбы, дважды сидевшего в лагерях и четыре года находившегося в финском плену, представить писателем только «лагерным». Для того, чтобы его писаниями разрушать в последующем нашу народную и государственную жизнь, когда уже никакой «тирании» не было… По примеру А. Солженицына, жившего «не по лжи», уже только одна фамилия которого, по иронии судьбы, содержала ложь… Точную характеристику ему дал М. Шолохов, величие и слава которого А. Солженицыну жить не давала, в письме в Секретариат Союза писателей в сентябре 1967 года, отзываясь на «Пир победителей» и «В круге первом»: «У меня одно время сложилось впечатление о Солженицыне (в частности после его письма съезду писателей в мае этого года), что он – душевно больной человек, страдающий манией величия. Что он, Солженицын, отсидев некогда, не выдержал тяжёлого испытания и свихнулся. Я не психиатр и не моё дело определять степень поражённости психики Солженицына. Но если это так, человеку нельзя доверять перо: злобный сумасшедший, потерявший контроль над разумом, помешавшийся на трагических событиях 37-го года и последующих лет, принесет огромную опасность всем читателям и молодым особенно».
Но Я. Смеляков был человеком мудрым, постигавшим глубинные закономерности жизни. «Лагерника» из него не вышло, а так хотелось: «Но они, всю жизнь, со времён Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли «проглотить» название и первую строфу: стихотворение назвали «Курсистка», а первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом» (Ст. Куняев).
Ярослав Васильевич Смеляков же, как человек большого таланта и широкой души, умел по-доброму касаться любых тем и аспектов нашей жизни. Как, к примеру, в братском и извинительном обращении к Павлу Григорьевичу Антокольскому, кстати, моему первому литературному наставнику: «Сам я знаю, что горечь/ Есть в улыбке моей, / Здравствуй, Павел Григорьевич, / Древнерусский еврей…».
Так наши либерал-западники, неореволюционеры свергая идеологию предшествующую, утверждали новую, как они полагали, «передовую» либеральную в которой всё ещё корчится страна, народ, общество. Не получилось, не вышло. Да и разве праведность утверждается таким волюнтаризмом и даже шкодливостью? Нет, конечно. Но слава богу есть такой поэт и литератор как Станислав Куняев, стоящий на страже, обладающий достаточными знаниями и гражданским мужеством для того, чтобы несмотря ни на что, пресекать подобный идеологический и литературный волюнтаризм.
Многое «шестидесятники» писали, конечно, с расчётом и преднамеренно, с определённой мировоззренческой установкой в согласии со своими либеральными фетишами, и даже с выгодой, как им казалось для себя. Но как люди всё же не лишённые таланта, выражали свою сущность и интуитивно, непреднамеренно, как бы помимо своей воли. Как бывает обыкновенно с большими поэтами. Как, к примеру, в знаменитом стихотворении О. Мандельштама «Мы живём, под собою не чуя страны…». В стихотворении такого обличительного радикализма он вдруг, и как бы действительно против своей воли, сравнивает указы с подковой: «Как подкову даёт за указом указ…». Вдруг обращается к образу, который в русском народном самосознании имеет исключительно положительное значение. Ведь найти подкову означает – к счастью. Её-то и прибивали над входом в жилище, ограждая его «от вторжения нечистой силы» (А. Афанасьев). Таким образом, обличая, он выразил огромное положительное значение обличаемого…
А. Межиров в духовном диалоге с Н. Тряпкиным писал, что он говорит с ним «напоследок», в последний раз: «Извини, что беспокою, / Не подумай, что корю. / Просто я с тобою, Коля/ Напоследок говорю». Что значит здесь напоследок? Подводя итог жизни в столь важном диалоге, и утверждая свою правоту? Да нет, напоследок, перед тем, как уехать на жительство в Соединённые Штаты Америки… Таких «напоследков» в течение жизни может быть десятки. Белла Ахмадулина в знаменитом стихотворении: «А напоследок я скажу:/ прощай, любить не обязуйся. / С ума схожу, Иль восхожу/ к высокой степени безумства». Да, действительно, это реквием по утраченной любви, трагическое переживание женщиной предательства любимым человеком (Е. Евтушенко, главным «шестидесятником»). Но не напоследок же, подводя итоги жизни… Такие «безумства» ещё будут и были. «Напоследок» окажется совсем не последним…
Но есть и иное воззрение, и иное восприятие жизни, где уж если «напоследок», так действительно напоследок. Как в примечательном стихотворении Владимира Кострова, представляющем собой завещание, после чего никаких «напоследков» уже не бывает и быть не может: «А напоследок вот, что вам скажу/ Я, не вкусивший славы и богатства;/ Я в тихую Россию ухожу/ В свободный мир действительного братства… «И – предупреждение об опасности тем, кого оставляет здесь, ограждая их от тех, для кого «напоследки», – если не через день, то повторимы, от «шестидесятников»: «Не сахарная клюковка растёт/ На знаменитой площади Болотной…» («Литературная газета», № 8, 2012). Вот разница, которая проявляется в самой плоти стихов и как бы помимо воли авторов. Личный, частный, а точнее эгоистический «напоследок» и – всеобщий, человеческий.
«Великий век этих «шестидесятников» скончался», – пишет Ст. Куняев. Век-то «этих» «шестидесятников» действительно скончался, но они есть во все времена и в этом смысле «бессмертны», как Каин, которого не только оставляет в мире Господь, но и защищает, накладывая на него печать. А потому и пишу это не для обличения тех, ушедших «шестидесятников», что уж теперь обличать их, когда окончательно обнажилась их ничтожность и их неприглядная роль в истории. Пишу для опознания «шестидесятников» нынешних и всяких… А главным образом потому, что «историческая трагедия, в которой мы сегодня живём, ещё не просматривается на горизонте…» (Ст. Куняев).
Станислав Куняев как поэт и редактор, как патриарх, стоящий на страже литературы, впрочем, он был на страже всегда, с молодости, кажется, очень близок Н. Некрасову с его журналом «Современник». Во всяком случае им обоим присуще сочетание искренней лирической стихии со строгой зоркостью анализа социальных аспектов. Но есть в их литературных судьбах и существенные отличия. Станиславу Куняеву уже неведома некрасовская «муза мести и печали». При всём при том, что гнев и желчь тут, как писал Ап. Григорьев, – «если не всецело, то по крайней мере, наполовину – вдохновение преднамеренное, вдохновение, так сказать, рассчитавшее свои шаги» («Стихотворения Н. Некрасова»). И главное – Ст. Куняев уже не знает того разделения, которое было у Н. Некрасова – между поэзией и литературной борьбой: «Мне борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом» (Н. Некрасов). Ведь такое разделение предполагает, что борьба – это деятельность рангом ниже, где надо соблюсти какие-то каноны в ущерб собственно поэзии. Ст. Куняев же во всех сферах своей литературной деятельности в равной мере искренен. И в этом плане он обладает поразительной творческой и мировоззренческой цельностью.
Н. Некрасов же идёт на «компромиссы». Он, к примеру, берёт в «Современник» сотрудником Н. Чернышевского из соображений во многом не литературных. Но не берёт Ап. Григорьева, который называл статьи Чернышевского – «оскорбляющие всякое эстетическое и историческое чувство». В одном из писем: «Человечество на четвереньках – идеал Чернышевского». А в письме В. Боткину от 26 апреля 1856 года объясняет, почему ему решительно невозможно работать в «Современнике»: «Что ж это будет за кавардак, в котором Анненков и я будем веровать в искусство, а г. Чернышевский ругаться над ним, т.е. проводить милые мысли своей диссертации о том, что искусство такое же ремесло, как сапожное мастерство, – в котором Дружинин и я будем ценить литературных деятелей по степени серьёзности их задач и таланта, а г. Чернышевский по степени их ярости и задора? Ведь это выйдет нечто смешное и хуже Вавилонского столпотворения!» Это – следы того разделения, которого не избежал Н. Некрасов, но которое было уже неведомо Ст. Куняеву. Напомню, что Ф. Достоевский, в отличие от Н. Некрасова, пригласил Ап. Григорьева в свой журнал «Время»…
Если же говорить о преемственности и о каких-то параллелях, то Ст. Куняев, конечно же, ближе к Ап. Григорьеву. Прежде всего – в этой всеохватывающей борьбе за поэзию, за литературу, а не за какие-то корпоративные установки и догматы, в чём преуспели «шестидесятники», как ХIХ, так и ХХ века. Ап. Григорьев в письме А. Кошелеву от 25 марта 1856 года: «Главным образом мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите – даже высшее, чем наука». В письме А. Майкову от 24 октября 1860 года: «Будет самая дерзкая борьба за поэзию, народность, идеализм против всякого социалистического и материалистического безобразия». Заметим, – борьба за поэзию прежде всего, и только в этой мере – за всё остальное. Как, впрочем, и должно быть у никуда не уклонившихся литераторов.
Есть сходство поэтов разных эпох и в жизненных позициях. Ап. Григорьев пишет М. Погодину 8 ноября 1857 года: «За границей можно учиться и ездить по разным городам. Но надобно быть чем-нибудь от Господа Бога обиженным, чтобы для удовольствия жить в каком-либо месте, кроме Отечества». У Ст. Куняева страстные стихи, по сути, о том же:
Непонятно, как можно покинуть
Эту землю и эту страну,
Душу вывернуть, память отринуть
И любовь позабыть, и войну.
…Всё, что было отмечено сердцем,
Ни за что не подвластно уму…
В этом, основном, главном он близок и к Н. Некрасову:
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Ярчайшим примером борьбы Ст. Куняева за поэзию, за литературу является участие его в дискуссии «Классика и мы» в 1977 году и выступление на ней с докладом. О, это было знаменательное событие для литературы и общества, не получившее, к сожалению, должного осмысления. По своей значимости оно стоит в одном ряду со знаменитой речью Ф. Достоевского при открытии памятника А. Пушкину в Москве в 1880 году…
В своём выступлении Ст. Куняев только и сказал о том, что не все написанное, тем более до предела идеологически ангажированное, утратившее своё и поэтическое, и историческое значение, можно считать классикой. Подменять разговор о классике идеологией, любопытством к биографическим подробностям и неким «заслугам», к литературе отношения не имеющим, недопустимо. Но какой вой подняла либеральная общественность с революционным сознанием…
Хотя тема обсуждения классики к тому времени уже назрела, так как началось заметное понижение уровня культуры, началось преобладание левых авангардных течений, ничего хорошего для состояния культуры, общества, народа и страны не сулящее. Серьёзного обсуждения классики не получилось, хотя были на этой дискуссии здравые голоса: «Классика, давая нам вот это идеальное представление о человеке, о мире, даёт нам какой-то высокий нравственный уровень, который не позволяет опускаться до такого понимания себя и человека. Понимаете, нельзя суету быта вносить в то, что оставили нам люди, которые заплатили жизнью за выстраданные ими идеи» (Игорь Золотусский). Позже, спустя более тридцати лет, Игорь Петрович писал об этой дискуссии: «К тому времени тема «Классика и мы» назрела: в искусстве полным ходом шло наступление авангарда. Другое дело, что эту дискуссию использовали в провокационных целях. Сразу после неё в главных западных газетах появились публикации, в которых её участники обвинялись в русском шовинизме и антисемитизме. При этом никаких иностранных корреспондентов, разумеется, на этой дискуссии не было. Значит кто-то специально инспирировал эти публикации. Кому-то хотелось дискредитировать неославянофильское движение?..»
Классика либеральной литературной общественности оказалась ни к чему, а боясь потерять своё рабство сомнительной славы, положение в литературной жизни, повела борьбу не литературную, а на уничтожение: «Моё участие в этой дискуссии повлияло не в лучшую сторону на судьбу моей книги о Гоголе. К примеру, редактор Померанцев отказался от редактирования, а Машинский написал отрицательную внутреннюю рецензию. Но никто – ни Кожинов, ни его друзья не предали меня, что ещё более сблизило нас», – вспоминал И. Золотусский.
Таким образом, удержать мировоззренческое и духовное равновесие в обществе тогда не удалось. Всё более и более реанимируемые «шестидесятниками» «революционные ценности», подавление литературной традиции, вытаптывая вокруг всё талантливое, всё традиционное и народное, превращая его в формальный лубок, создавало опасные предпосылки для катастрофы…
Начало этому положил революционный рецидив Н. Хрущева, с «оттепелью» для радикальной интеллигенции и «похолоданьем» для народа. Но в обществе всё же находились здоровые силы, не допускающие дисбаланса направлений мысли и открытой конфронтации. Хотя общественная и литературная жизнь была переполнена фактами, говорящими о духовной экспансии и даже агрессии. Чего стоит только «опасение» Ю. Андропова, что русские патриоты опасней, чем диссиденты – западники… Невольно возникал вопрос: для кого? Ст. Куняев приводит в книге такие факты. Факты не то, что удивительные, а по сути, ужасные. К примеру, когда Татьяна Глушкова представила для защиты диплома книгу стихотворений «София Киевская», то её научный руководитель, известный советский поэт Илья Сельвинский не принял рукопись диплома «по причине христианских мотивов, наличествующих в ней». Вот это «причина», вот это «мотивация»… Христианство – «недопустимо» и «опасно» для русского человека… Заметим, что происходило такое уже после войны.
«Я на свет явился недоношенным…»
Следуя завету А. Блока из его исторического очерка «Катилина» – «Я не хочу множить бесстыдства и уродства», – мы не станем их пересказывать. Уместные в монографии Станислава Куняева, они неуместны в этой литературно-критической повести. Мы всё-таки говорим о том образе мыслей, который к таким уродствам приводит. И всё же сделаем исключение. Пример слишком уж характерный, говорящий о том, как пополняются ряды «шестидесятников» и либерал-революционеров «новыми бойцами». Согласно какой логике они приходят к такому образу мыслей. Как воспроизводятся. Имею в виду поэта и литературоведа Игоря Волгина, исследователя творчества Ф. Достоевского. Примечательная метаморфоза произошла с ним, вроде бы, серьёзным исследователем.
Сначала игривая фронда по отношению к истории, отрицание её: «Сонму тупых исторических лиц/ предпочитаю смешливых девиц, / чей без сомнений и споров/ ум занимает Киркоров». Ст. Куняев приводит это стихотворение И. Волгина, которое шутливым назвать уж никак невозможно. Но примечательна «эволюция» поэта, следующая за таким отречением от истории, как видно, неизбежная. Далее он задаётся вопросом, – «может быть, в прозе излить свою желчь – в черта ли, в Бога» и, как видно, не долго сомневаясь, отказывается от былых, вроде бы, серьёзных литературных увлечений: «Не хочу я больше быть учёным – / это званье мне не по плечу… Был я умный, врал напропалую,/ но моё устало ДНК./ Дай тебя я лучше поцелую/ на исходе летнего денька». Затем – содомский грех: «Что ж нам делать спасения для, / порознь и свально, / если горит под ногами земля/ то есть – буквально». И, – наконец, откровенная русофобия: «Прощай, великая страна, / ушедшая не хлопнув дверью…/ Мы вновь свободою горим/ в предвестье радостных событий. / Прощай, немытый Третий Рим, – / уже четвёртому не быти…/ Прощай, нелепая страна, – мы жертвы собственных бездуший» («В книге Евгения Евтушенко «Не теряйте отчаянья», Санкт-Петербург, «Азбука», 2015, в которой он с восторгом представляет такие стихотворные откровения самого-самого «младошестидесятника», называя их зрелостью). Тут перефраз из стихотворения «Прощай, немытая Россия», входящего во все собрания сочинений М. Лермонтова, но ему не принадлежащего. Литератор, вроде бы, должен знать, что эта беспомощная стихотворная прокламация является свидетельством все того же мировоззренческого противостояния в нашем обществе между западниками и почвенниками, изготовленная по всем признакам редактором «Русского архива» П. Бартеневым, задним числом, многие годы спустя после убийства М. Лермонтова. К тому же выдающийся филолог, директор Пушкинского дома Н. Скатов в своё время убедительно доказал, что эта стихотворная поделка М. Лермонтову не принадлежит. Но что выводы истинного учёного для учёного-расстриги, стремившегося в «известный круг», и никуда более, кроме этого круга не попавшего… Это же стихотворение если о чём и свидетельствует, кроме своей поэтической беспомощности и политического радикализма, так о том, какими коварными приёмами велась борьба против великого поэта уже после его убийства. И продолжается, коль вопреки всему, оно продолжает включаться в книги М. Лермонтова…
Что явилось причиной такой «эволюции» поэта и литератора, такого его явного падения, сказать трудно, ибо это – дела духовные, от внешнего взора сокрытые. Может быть, то, о чём он сам говорит: «Я на свет являюсь недоношенным», может быть, ложно избранная цель, мелкая и утилитарная, так сказать, вполне житейская, которая ничто в сравнении с теми духовными высотами, на которых пребывает русская литература. Об этом он так же откровенно пишет: «Этот мальчик желает пробиться, / примелькаться, вписаться в строку, / удостоиться званья провидца, / очутиться в известном кругу». Вот и вся цель – попасть в «круг».
Ну что ж, вот и свершилась его заветная мечта. Он – в «известном кругу», в «узком», разумеется. Неужто она столь драгоценна и высока, что нисколько не стесняясь, можно с некоторой даже гордостью говорить о том, какой низкой и порочной ценой она достигнута… Но здесь поражает и другое: литератор сообщает о том, о чём говорить совестно. Или действительно у «шестидесятников», по признанию одного из них, стыд удален как аппендицит? С какой целью можно сообщать такое городу и миру? Кажется, с единственной, корпоративной, дабы подать сигнал о том, что он «свой», в их «известном кругу». Точнее, – в «узком кругу».
Какой-то поразительной человеческой глухотой отличаются «шестидесятники». Ну, скажем, зачем И. Волгину сообщать людям о том, что он «На свет явился недоношенным». Даже если это действительно так. Тем самым получить, сострадание от читателей? Но этого не получается. Об этом аномальном обстоятельстве его личной жизни, которое могло иметь последствия, сообщается с гордостью, как о неком безусловном достоинстве… Такие представления и «ценности», по всякой логике, не должны были получать преобладания в обществе, не должны получать статуса образца и эталона в информационном, книжном, литературном мире. Но получать объективную оценку.
Пишу не ради укора известного в узком кругу поэта, ибо дело каждого выбирать «ценности». И уж тем более не для переубеждения, так как «жертв собственных бездуший» переубедить невозможно. Но для того, чтобы показать эту последовательность и закономерность, согласно которой он приходит к русофобии: не усмешка над историей, а её отрицание – расставание с наукой – содомский грех – русофобия.
Совершенно очевидно: русофобия не приобрела бы таких масштабов и беспардонных форм в западном мире, не насаждайся она внутри страны, в нашем обществе с такой последовательностью под видом литературы. Не проповедуй эту смердяковщину «шестидесятники». Если бы её не проповедовали вкупе с «революционными ценностями» либерал-западники. Ожидаемых ими «радостных событий» в очередной раз не получилось. Их и не могло получиться из такого интеллектуального убожества…
Но поскольку И. Волгин мимоходом искажает наследие М. Лермонтова, говоря неправду, как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее сомнению, надо сказать о том, как неправда удерживается в нашем общественном сознании и сколь она не безобидна для духовного здоровья и нашей безопасности. Когда бывший президент Украины П. Порошенко беснуясь, с пеной у рта кричал, указывая на восток: «Прощай немытая Россия», тут все было понятно. Русофобия является неотъемлемой частью идеологии фашиствующего режима. Каким должен бы быть наш ответ на такое беснование? Сказать ему, обезумевшему о том, что его неправедный гнев не достигает цели, так как стихотворение это М. Лермонтову не принадлежит, что это идеологическая поделка и ничего более, что это сочинили такие же уроды как и ты. Но когда к двухсотлетию великого поэта и пророка у нас в России, на официальном уровне из всего обширного и ещё не вполне постигнутого его наследия не нашлось ничего, чтобы напомнить гражданам о нём, а нашлась только эта прокламация, ему не принадлежащая, то тут действительно открывается вся глубина духовной трагедии, в которой мы находимся… Причём, представлялась эта стихотворная поделка с таким «объяснением»: и так, мол, можно любить родину. М. Лермонтов ведь так любил. Нет, так родину можно только унижать и ненавидеть. Сама лексика, её понятийный ряд явно не Лермонтовские, об этом свидетельствуют. Великий поэт М. Лермонтов, столь много говорящий о нас сегодняшних, в равной мере оказался никому не нужным. Что значат после этого какие бы то ни было декларации о сохранении нашего духовного наследия? Это наоборот говорит о не сохранении его, без чего мы беспомощны и уязвимы. Это ведь никаким книжным «рынком» уже не объяснишь. Как со всем этим быть теперь, когда нам объявлена война на уничтожение, ясно. У нас есть ведь опыт Великой Отечественной войны. Пока же русофобии противника противопоставлена доморощенная русофобия. И всё. Чем же укрепится дух человеческий и народный, необходимый для победы? А ведь в библиотеках милые, добрые люди, энтузиасты если ещё и проводят какие-то литературные мероприятия, то зачастую по «шестидесятникам», так как они преобладают в информационном пространстве. Это всё ещё «последнее» слово русской литературы миновавшего и нынешнего века. И общественного сознания… Что же удивляться тому, что в обществе в судный час оказалось столь много пацифистов и уклонистов от войны? А чё её «немытую»-то защищать?.. Но коль на официальном уровне Россия всё ещё «немытая», тут же находятся добровольные продолжатели и пропагандисты этой явной застарелой русофобии. В мае 2017 года в Пятигорске, в Музее-заповеднике М. Лермонтова прошёл международный круглый стол о «проблеме» авторства этого стихотворения «с точки зрения современной филологической науки». Никакой там филологической науки не оказалось, да устроители этого мероприятия – историки, а не филологи. Слыханное ли дело, чтобы собиралась научная конференция по стихотворению из двух строф, по восьмистишию? Но собрались не обсудить проблему, а утвердить авторство этой стихотворной поделки М. Лермонтова: «Все научные сообщения посвящены исключительно доказательству авторства Лермонтова» (В. Станичников, «Отрадненские историко-краеведческие чтения», выпуск VIII, Армавир-Отрадная, 2020). Такая вот «филология». И стоит лишь удивляться тому, как стойко, несмотря ни на что, ни на какие доказательства это ложное положение удерживается в общественном сознании. Как понятно, не само по себе…
Примечательно, что наши либерал-«шестидесятники» в своей неистовой борьбе по защите дорогих им догматов, либеральных «ценностей» действовали против патриотов-традиционалистов на уничтожение. И здесь они оставались верными «революционным ценностям» и заветам своих отцов-революционеров. Это подтверждается тем же, революционным захватом Союза писателей Е. Евтушенко. Я был на этом пленуме и видел, как невменяемо «свободно горел» этот поэт. Казалось бы, ну захватили Союз писателей, надо полагать для более эффективного руководства им, для организации литературной жизни, дальнейшего развития литературы. Нет, такой радикал-революционный тип сознания созидания не предполагает. Он только разрушает, так сказать, «расчищает» дорогу для «нового», находя в этом и ни в чём более свою «миссию». При этом степень неистовости и революционной невменяемости была такова, что не замечалось, что не традиционалистов «победили», а разрушили реальную творческую, и не только писательскую жизнь. И для себя тоже. Теперь ищут «кто виноват?» И находят. Но только не себя…
Либеральный тип сознания – это особый мировоззренческий и духовный комплекс, основой которого является всё-таки соблазн человека достичь какой-то цели сразу и сейчас, вне зависимости от тех законов, по которым свершается жизнь. Впадают в него обычно от недостаточной образованности, от неглубокого знания. От неполноты восприятия мира, абсолютизации какой-то одной идеи, которая кажется ему главной. Конфронтация к предшествующему и уже известному, вне зависимости от того верно оно или ложно. Обязательно определённая доля позёрства и эпатажа, который заменяет истину. Нетерпимость к иному пониманию. Самонадеянность, исключающая пересмотр своих убеждений, а значит исключающая и развитие личности.
Это внешне очень привлекательный комплекс, так как он провозглашает и обещает такие ценности, от которых никто отказаться не может. Скажем, свобода вообще и свобода личности. А в какой мере и каким путём это достижимо или нет, для исповедника таких воззрений неважно. Главное – завораживающий и соблазняющий внешний блеск, обычно обманчивый. В конце концов, исповедники таких воззрений сами того не ведая и не желая, превращаются в «употребляющих свободу для прикрытия зла» (Первое соборное послание св. Петра, 3:16). И неизбежно становятся как «наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям» (Второе соборное послание св. Петра, 3:3). Такой комплекс, как правило, направлен не на постижение истины, а на внешний эффект, полагая, что это и есть суть человека, что это красит, а не унижает его. А потому не может не отступать от заповеди: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение словес, не золотые уборы или нарядность в одежде» (Первое соборное послание св. Петра, 3:3).
Как видим, такой комплекс воззрений известен людям давно, можно сказать, изначально и не столь важно, как он называется в ту или иную эпоху – «философичностью, революционной демократией или либерализмом, суть его едина и неизменна. В конце концов он прокладывает дорогу к вырождению человека. В самой основе таких воззрений есть изъян, который приводил, не мог не приводить к такому трагическому результату. Но признать этот изъян, значит признаться в своей недальновидности и глупости, значит признать, что благие декларации оказались, по сути, ложными.
«Шестидесятничество есть ведь одичание…»
Удивительно, что после двух революционных крушений страны в одном, ХХ веке, какими упрощёнными представляются до сих пор размышления об интеллигенции, к которой относят себя «шестидесятники» в первую очередь. Это звание служило и служит им чем-то вроде индульгенции. Даже оспаривают, кто ввёл этот термин «шестидесятничество» первым в наше время. Словно не замечается, что он существовал и в ХIХ веке. И что «шестидесятники» того века ничем не отличались от «шестидесятников» ХХ века, о чём писал А. Блок в заметке 1919 года «Герцен и Гейне»: «Эти далёкие и слабые потомки Пушкина одиноко дичали, по мере того как дичала русская интеллигенция. Шестидесятничество есть ведь одичание, только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого удаления от природы, когда в матерьялистических мозгах заводится слишком уж большая цивилизованная «дичь», «фантазия» (только наизнанку) слишком уж, так сказать, – не фантастическая».
Ну так интеллигенция, скажут нам, – это образованная часть общества, так сказать, духовный поводырь народа, которая болеет за народ, печалится о нём, просвещает его, служит ему… Всё верно. Так должно быть, но у нас в России это далеко не так. Говоря об интеллигенции, имеют в виду только «русскую интеллигенцию», а это совсем не то, что интеллигенция как образованная часть общества: «Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, это слово, то есть понятие, обозначенное им, существует лишь в нашем языке… У них нет вещи, которая могла бы называться этим именем» (Г. Федотов).
В России, пожалуй, во второй половине ХIХ века сложилась «русская интеллигенция», под которой разумеется исключительно радикальная часть интеллигенции с революционным сознанием. Это – наиболее не русская, не этнически даже, но по духу часть интеллигенции, которой и понадобилось это определение – «русская» для своей специфической идентификации. Именно эту часть интеллигенции имели в виду авторы знаменитого сборника «Вехи», предупреждая о том, что она неизбежно приведёт к революционному крушению страны. И оказались правы, за восемь лет до крушения… Этой части радикальной интеллигенции дал беспощадную самохарактеристику М. Гершензон в «Вехах»: «Мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть русских интеллигентов, и уродство наше – даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное… У большинства этот постулат общественного служения был в лучшем случае самообманом, в худшем – умственным блудом и во всех случаях – самооправданием полного нравственного застоя… Мы были твёрдо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности, и что, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа качественно другая – это нам на ум не приходило… Между нами и нашим народом – иная рознь. Мы для него – не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои».
Именно эту часть интеллигенции имел в виду А. Блок: «Интеллигенция … Опять-таки, особого рода соединение, однако, существующее в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с «народом», со «стихией», именно – отношения борьбы». Именно о такой интеллигенции пишет теперь и Станислав Куняев: «Никогда такая «интеллигенция» не могла слиться с народом и простонародьем хотя бы потому, что со времён революции и гражданской войны, со времён Великой Отечественной в памяти коренного государствообразующего народа было прочно заложено понимание того, что всякое посягательство на государство, всяческая тотальная борьба с ним рано или поздно оборачивается всенародной бедой и унижением перед чужеземной волей». Но как она неизменна во времени эта радикальная революционная её часть, вне зависимости от того, каким словом называется – «шестидесятниками» или «либералами». Неизменна во всём и прежде всего в своей творческой несостоятельности.
А. Блок, отвечая на анкету «Что сейчас делать?» почему-то счёл необходимым сказать это: «Я – художник, следовательно, не либерал. Пояснять это считаю лишним». Видимо, эта взаимосвязь представлялась ему столь очевидной, что не требовала пояснений. В. Розанов пояснил это обстоятельно и точно: «Либерал красиво издаст «Войну и мир». Но либерал никогда не напишет «Войны и мира»; и здесь его граница. Либерал «к услугам», но не душа». Хотя, конечно в либерализме есть некоторые удобства, без которых «трёт плечо». Но эти некоторые удобства, на которые так часто соблазняются люди, так несоизмеримы по значению и масштабам с тем, что либерализм приносит…
Подтверждением этого является и то, что после поэмы «Двенадцать», в которой А. Блок, не смотря ни на что, оставляет народ с Христом, либерал-«шестидесятник» Е. Евтушенко смог написать только откровенно русофобскую поэму «Тринадцать», прямо-таки пропагандистски русофобскую. Вот и всё служение «такой» интеллигенции народу…
В информационном пространстве, в книжном мире «победители» и их последователи всё ещё резвятся несмотря на трагические, печальные и негативные результаты. Книжные ярмарки, выставки, вплоть до региональных провинциальных книжных магазинов – всё заставлено новыми переизданиями «шестидесятников». Рядом – рыночные либеральные поделки, как правило, крайне нигилистические в согласии с государственной либеральной идеологией, сохраняющейся стойко и зорко, но по умолчанию, негласно. Словно это можно «спрятать»… Да, издаётся и русская классика. Она тут же, рядом, что красноречиво демонстрирует магистральную мысль: переиздания «шестидесятников», уже сыгравших свою неприглядную роль в нашей народной и государственной жизни, «рыночное» чтиво со всеми их «Гариками» – это и есть продолжение русской литературной традиции. Это и есть её наследники. При таком соотношении дальнейшее развитие литературы невозможно. Это духовный тупик, в котором ничто развиваться не может. Ведь пресекается не только литература, но и общественная, интеллектуальная мысль вообще. Чтобы скрыть это положение, неслучайно появилась «интеллектуальная литература» – специфическая, мировоззренчески ангажированная. За всем этим рано или поздно следует бунт разума, ибо не может человек бесконечно долго пребывать в не настоящем мире, в имитации. Но такое положение, такое уродливое соотношение, как говаривали ранее, – направлений литературы, не есть некое стихийное бедствие, с которым ничего невозможно поделать. Оно поправимо при нормальной культурной политике в стране, не исключительно либеральной.
А пока, то, что называлось у нас художественной литературой, теперь является, по точному определению Владимира Ермакова, «ловушкой на человека»: «Катастрофа произошла не в воздухе, а в базисе сознания – в языке описания субъективной реальности человека. То есть в литературе. Именно здесь аналитика человека дошла до полного нигилизма… Потеря ориентации переживается как утрата смысла жизни… Тот образ Божий, который брезжит тайно в каждом из нас, наиболее отчётливо проявляется в шедеврах литературы… Так было – или, по крайней мере, в это верилось. Теперь же картина иная. Современная культура, чем дальше, тем больше вырождается в массовую культуру. Она наладила массовое производство дешёвых заменителей духовных ценностей. Она перерабатывает вторсырьё – отходы человеческой жизнедеятельности. Аудиовизуальная агрессия загоняет массового человека в виртуальный мир, из которого нет выхода. Лишённая первородства литература генерирует в текст тотальную тщету, отзывающуюся в человеке то смертной тоской, то смертельной скукой… Время утверждения человека, видимо, ещё не наступило и, судя по всему, наступит не скоро» («Аргамак. Татарстан», № 1, 2011).
Если «не скоро», то может не наступить никогда. Два поколения продержанные в такой тине духовной могут в ней захлебнуться окончательно. На этот раз не спасёт и классика, так как для них она будет молчать, даже хорошо изданная… А нагнетаемое вокруг этого бедствия бодрячество, нагнетание «оптимизма» только усугубляет наше положение. Но мы ведь подобное положение уже переживали. А. Блок записывает в дневник 11 марта 1913 года: «Пройдёт ещё пять лет, и «нравственность» и «бодрость» подготовят новую «революцию» (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от какого отчаяния, ни от какой тоски). Это всё делают не люди, а с ними делается: отчаяние и бодрость, пессимизм и «акмеизм», «омертвление» и «оживление», реакция и революция. Людские воли действуют по иному кругу, а на этот круг большинство людей непопадает, потому что он слишком велик, мирообъемлющ. Это – поприще «великих людей», а в круге «жизни», (так называемой) – как вечно – сумбур; это – маленьких сплетников. То, что называют «жизнью» самые «здоровые» из нас есть не более, чем сплетня о жизни. Я не скулю, напротив, много светлых мест было в эти дни». (Дневник А.А. Блока, Издательство писателей в Ленинграде, 1928). И поэт оказался прав не только по существу, но и хронологически.
Второе нашествие «шестидесятников» после благополучно свершившейся их смерти, только приближает трагическую развязку. Какой именно она будет, сказать невозможно. Но то, что при нынешнем положении литературы в обществе и её состоянии, она неизбежна, в этом нет никакого сомнения. Это подтверждает наш предшествующий духовный опыт. При нынешнем вызывающем пренебрежении культурой, вытеснении русской литературы из общественного сознания и образования, нас может постичь участь племени атцуров, которые погибли. Не от ядерного оружия, не от новой мировой войны и не от экологических проблем, а от утраты смысла своего существования, от утраты своей духовной природы, от вырождения… Об участи атцуров любил рассказывать Л. Толстой. В пересказе М. Горького: «Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа… С нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о которых какому-то учёному сказали: «Все атцуры вымерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка…». О нас же могут не сохраниться даже немногие слова, так как попугаи у нас не водятся…
«Зло от юности его…»
В нашем обыденном сознании основополагающие принципы устройства мира обычно заслонены соображениями второстепенными и побочными. Про малое нередко думают, что это – большое, а про большое, что это – малое. Но при этом трудно сориентироваться в мире и распознать, что же происходит в действительности. Обыденная логика диктует нам уверенность в том, что зло этого мира когда-нибудь, рано или поздно, но обязательно будет повержено, и наступит некое, трудновообразимое утопическое благоденствие. Но уже только одно знание этого влечёт за собой иной характер действий, наше иное положение в мире. Но зло в этом мире неустранимо. С этим трудно смириться, в это невозможно поверить. Как в этих стихах Якова Полонского: «Мы оба поразим своим рассказом небо/ Об этой злой земле, где брат мой просит хлеба. / Где золото к вражде, к безумию ведёт. / Где ложь всем явная наивно лицемерит, / Где робкое добро себе пощады ждёт, / А правда так страшна, что сердце ей не верит».
Каждый человек, вступающий в этот мир, вступает со злом в брань духовную, разрешая её прежде всего в душе своей. Вступает в борьбу по обузданию зла или падает под его бременем: «Над нами – сумрак не минучий, / Иль ясность Божьего лица» (А. Блок). Да что там, сам Господь оставляет в этом мире Каина. Более того, защищает его: «И сказал Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемерно. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Бытие, 4:15). Причём, несмотря на то, что Каин отпал от Бога. Вопреки жалобе Каина на то, что Господь его гонит от лица своего, Господь его не гонит, он сам отпадает от Него: «И пошёл Каин от лица Господа» (Бытие, 4:16). Такова его суть, он – стенающий и шатающийся. А потому перевод «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Бытие, 4:2) – неточен. Здесь духовное состояние Каина подменяется, говоря современным языком, его социальным положением. «Гонимость» его – уже следствие, а не причина. Хотя либеральная мысль во все времена постоянно выдаёт гонимость Каина за причину, таким образом оправдывая его и скрывая его природу…
Пророк Иеремия жалуется Господу: «Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломное благоденствует?» (Книга пророка Иеремии, 12:1). И просил он Господа: «Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения» (12: 3). Господь соглашается, что «все они – упорные отступники, живут клеветою: это медь и железо, все они развратили (6: 28). Но вместе с тем отвечает, что отделить их невозможно. Пытались уже отделить злых от праведных, но ничего из этого не вышло: «Раздуваемый мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик плавил напрасно; ибо злые не отделились» (6: 29). Итак, злые остаются, но для опознания их им даётся имя – «отверженное серебро»: «Отверженным серебром назовут их; ибо Господь отверг их» (6:30). Господь отверг их, а не человек, ибо это – дела Божеские… Зло в мире не устранено, а определено и водворено на своё истинное место. Это к вопросу о том, как «объединяются» в этом мире разные люди, разные направления мысли во все времена. И в наше, разумеется…
В откровении Святого Иоанна Богослова даётся картина, как сказали бы ныне варварским языком, воспроизведения зла: «Зверь был, и нет его, и явится» (17:8), «И выйдет из бездны, и пойдёт в погибель»… Ангел хватает зверя и лжепророка, производящего чудеса, и бросает их живых в озеро огненное, горящее серою. Он сковывает зло на тысячу лет: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (20: 2). Но потом снова освобождает его на малое время: «И низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобождённым на малое время» (20:3). Известна и продолжительность этого времени – сорок два месяца или, по сути, три с половиной года: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (13:5). Но по истечению тысячи лет сатана вновь освобождается: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы» (20: 7).
Но всё дело в том, что это малое время – не хронологическое и не календарное. А потому мы не можем знать, наступило оно, прошло или только грядет. Мы знаем только, что оно есть. По этой природе его можно сказать, что наше время и есть «малое время»… И будем правы в этом и не правы, так как не знаем того, когда именно оно наступает… Но Господь однозначно указывает нам на то, как преодолевается зло. После водного Потопа Господь отказался впредь наказывать землю за человека, так как зло в человеке – «от юности его»; и оставляет жизнь на земле не прекращающейся: «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал» (Бытие, 8: 21). Таким образом, признавая, что зло в человеке от юности его, от молодости и несовершенства, Господь оставляет единственный путь сохранения человека на земле – его совершенствование…
О том, в каком беспорядке находится у нас мировоззренческая мыслительная сторона жизни свидетельствует то, на каких простых, даже примитивных идеях было «обосновано» разрушение страны в начале девяностых годов, типа мы «семьдесят лет падали»… Разумеется, народное самосознание в ХХ веке было травмировано революционной догматикой. Но оно с ней с потерями, но справилось. Цена оказалась, правда, очень большой. Удивительно, что в прекраснодушном прозападном бахвальстве невменяемого лидера люди в массе своей не увидели грозящую им смертельную опасность. Мол, это же – слова, а за слова не судят. Так въелись в нас позитивистские воззрения, что совсем заслонили извечный закон человеческого бытия: в начале было слово… Многие, безусловно, понимали, что речь идёт не об «освобождении» от с такими трудами и жертвами сформировавшегося в России образа жизни после её революционного крушения начала ХХ века, а о новом, хитроумном коварном её покорении. Но их оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить катастрофу, в которой всё ещё корчится страна, несмотря на предпринимаемые усилия… Не находя пока сил для выработки парадигмы своего развития, соответствующего историческому опыту и духовному складу народа. Об этом свидетельствует то, что великая русская литература, содержащая код нашего народного бытия уже спасавшая нас в предвоенные, военные и послевоенные годы, по сути, изъята из общественного сознания в угоду «рынку», то есть абсолютно ничтожной мотивации. Литературное дело в нашей самой литературоцентричной стране остаётся, по сути, оставленным. И на этом фронте борьбы за само наше существование правящим классом пока не предпринимается решительных мер, столь необходимых. Наоборот, исподволь, идёт сохранение и даже возвращение тех идей, на которой страна была разрушена. Заигрывание с прозападными, проамериканскими уже немолодыми недорослями продолжается. И с теми «деятелями культуры» точнее идеологическими бойцами, которые потеряв связь с подлинной культурой, своё «дело» разрушения страны уже сделали. А в судный час уже предали дело защиты страны. Призывать их делать то же самое, значит, работать на противника, который уже ведёт борьбу на наше уничтожение… Перенацелить потоки газа и нефти на восточный рынок и оставить в неизменности духовно-мировоззренческую сферу, переполненную гремучей смесью разрушения, значит или не рассчитывать на нашу победу, то есть на дальнейшее историческое бытие страны и народа, или наивно полагать, что всё как-то само собой устроится.
Главный фронт войны, начатой Западом, а точнее Соединёнными Штатами Америки против России, проходит всё-таки в области духовной, исторической, культурной (и прежде всего литературной), мировоззренческой и информационной. Совершить перелом в этой сфере в пользу традиционных ценностей при западнической и проамериканской значительной части творческой элиты будет очень непросто. Но именно от этого зависит наша победа. Ведь строго говоря, со стороны «шестидесятников» это не было каким-то родовым что ли предательством. Они были и остались верными революционным заветам своих отцов, остались верными «революционным ценностям», которые реанимировали для всех, всего общества. Это было отречением от русской литературы, предательством её и русского мира. Это было предательством страны и народа, среди которого они жили. Предательством, может быть и не злонамеренным, но по «глубокому убеждению», по самой своей натуре, что не изменяет сути этого действа. Других ценностей, кроме революционных, они не знали. Да и было бы наивным от них требовать их. Они-то остались верными заповедям своих отцов. А остались ли мы верными заповедям своих, или соблазнились ничтожными речами лжепророков?..
Я думаю, что радикализм «шестидесятников», их принципиальная поверхностность, облечённая в лёгкое словоблудие, не позволили им глубоко осознать своё собственное состояние и положение в обществе, свою принадлежность к советской системе и цивилизации, того, что они и есть порождение этой эпохи в нашей истории. Это же поразительно, что те, кто боролся против советской системы таким мертвым жупелом, как «советский тоталитаризм», вдруг обнаружили, что и на Западе, и на «исторической родине», и везде они в общем-то – «не свои»… Безрелигиозная, обезбоженная советская система, с её энтузиазмом и «передовым» социальным учением, несмотря на её скрытый традиционализм, сформировала такой своеобразный тип человека, который точно определяется строчкой А. Межирова: «Не обрезанный и не крещённый». То же, по сути, определяет и наша поговорка: «Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга». Насколько такой тип человека окажется жизнестойким зависело от многих факторов, во всяком случае, он был легко подвержен эзотерическим и оккультным влияниям. Но вне советской системы он, как её продукт, терял всякое своё значение, переставая быть… Понять это «шестидесятники» оказались не в силах.
Но какая наивность и какая человеческая глухота и безответственность были выдвинуты «шестидесятниками» для своего оправдания и якобы для сохранения: «Мы вновь свободою горим в предверье радостных событий». Ведь таким беспричинным путём и восторгом свобода не достигается (за счёт других), события оказались, вопреки их ожиданиям, безрадостными. Но такая безответственность перевесила всё остальное. В то время, как теперь ясно, что речь могла идти только о верном соотношении и сосуществовании. Но не вняли «шестидесятники» словам святого апостола Павла из его послания с ефесянам: «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным, не обрезайся» (7: 18).
Здесь не место касаться столь важного аспекта в нашей истории бегло. Скажу только, что это противостояние и противоборство в нашем обществе происходит отнюдь не с «ХХ партсъезда», во всяком случае не только с него. Оно имеет очень давнюю, можно сказать, изначальную природу. Оно во всей глубине представлено уже во второй половине ХII века, в бессмертном «Слове о полку Игореве». А потому неленивых и любопытных отсылаю к этому моему прочтению «Слова» («Поиски Тмутаракани. По «мысленному древу»: от «Слова о полку Игореве» до наших дней», М., «Звонница-МГ», издание 2-е, дополненное, 2022).
Новое нашествие «шестидесятников»
Теперь, когда картина происшедшего, случившегося с нами и со страной прояснилась, можно было ожидать, нет, не того, что «шестидесятники» отбросят свои траченные молью догматы и фетиши, а того, что в обществе и стране начнётся новое культурное строительство, что на нашей мировоззренческой ниве, давно заросшей бурьяном и чертополохом, начнёт наводиться порядок. Будут предприняты реальные меры по прекращению искажения и унижения народного самосознания, возвращения в общество великой русской литературы с её идеалами, говорящей новым поколениям не о том, до какой низости может пасть человек под бременем соблазнов, а о том, до каких духовных высот он может подняться, прекратят, наконец-то «множить бесстыдства и уродства». А задача ведь, которую неизбежно предстоит разрешать, невероятно сложная и грандиозная: «Правду, исчезнувшую из русской жизни, – возвращать наше дело… Только правда, как бы она ни была тяжела, легка – лёгкое бремя» (А. Блок).
Но этого пока не происходит. Началось, впрочем, ожидаемое, новое нашествие «шестидесятников» и их последователей, реабилитация их революционных и гендерных «ценностей». При свете случившегося уже наивного, но не менее настойчивого и бесцеремонного, чем ранее. Хотя совершенно ясно, что при таком запустении на ниве мировоззренческой и духовной и оружие железное может не пойти впрок, так как оно плохо управляемо шаткими душами.
Правда, для такого нашествия, вроде, был понятный человеческий повод – девяностолетние юбилеи «шестидесятников». Но и без повода началась их спешная мобилизация, новое втемяшивание их падших «ценностей» в головы удивлённых сограждан на фоне войны, вооружённого нашествия Запада на Россию. «Шестидесятники» оказались на стороне противника, в этом общем нашествии на Россию. Видя всё это, у граждан не может не возникать такой вывод: ну всё, страну опять сдают…
На фоне девяностолетия Е. Евтушенко «великого шестидесятника», как его теперь насильно именуют («Вечерняя Москва», № 28, 2022), совпавший с ним двухсотлетний юбилей выдающегося критика Ап. Григорьева выглядел бледно. И то, пытались представить его «как человека». Обычный приём, когда пытаются обойти суть дела, суть литературного подвига и в то же время создать впечатление объективности и заинтересованности литературой. Это ни о чём не свидетельствует, кроме как о том, что снова «русское направление кредита не имеет» (Ап. Григорьев). Что уж возмущаться поднявшейся русофобией на Западе, принявшей самые уродливые формы, как идеологического обеспечения уже объявленной нам и уже начатой войны, если она старательно поддерживается у нас в стране… А представление Е. Евтушенко «стильным европейцем» ни о чём более не говорит как о том, что он снова делегирован Западом, теперь уже посмертно, для русофобской подрывной работы внутри страны, как уже было… То есть «дело» его продолжается. Хотя хорошо известно, чем оборачивается такое обезьянничанье.
Романтика «шестидесятников», слишком уж пахнущая кровью, уже давно потускнела, окончательно выявив свою корпоративную и даже сектантскую суть. А то, что «успешным «шестидесятникам» удалось возродить вольный дух русской богемы» (Анатолий Макаров, «Литературная газета» (№ 5, 2016), ушло вместе с ними. Но им хотелось и «богемы», и одновременно признания народа. То есть, устроив «оттепель» для себя, а для народа – «похолоданье», получить от него ещё и одобрение, и даже преклонение. Да и какая это была романтика, скорее – интеллектуальная несостоятельность, коль не могли предположить, что из этого выйдет. Отсюда – дежурные жалобы на народ, на его «непросвещённость», на то, что он не дорос до, как казалось им, их интеллектуальных высот: «Долгожданная выстраданная свобода обернулась общественным равнодушием» (Анатолий Макаров). Теперь действуют последователи «шестидесятников», их «узкий круг», которые всё ещё продолжают то падшее дело, когда всякий автор, отметившийся в подвалах Парижа и трущобах Нью-Йорка, в России должен стать «большим» писателем… Это как бы гарантия «успеха» для дальнейшей имитации литературы. Даже сочли возможным и необходимым широко сообщить о том, что Сергей Довлатов издавал там бульварный журнал «Петух». Ах да, это – бульварно-демократический журнал, а его бульварность – это не творческое падение, а приём поведать городу и миру всю правду.
Ну а коль дискуссию «Классика и мы» пресекли, да что там, русскую литературу в России приостановили, теперь каждого, по своему усмотрению, можно называть «классиком», «мастером», «легендарным мэтром»… и спешно заняться «увековечением» тех русофобских идей, которые они исповедовали. В Казани устраивать «Аксёнов-фест». Какой там литературный праздник или чтения – «фест». О том, как последователи «шестидесятников» теперь подправляют их, дабы соблюсти идеологическую «чистоту» их учения, свидетельствовала экранизация романа Василия Аксёнова «Таинственная страсть» со сценами «суматошной сексуально-политической жизни», «о благородных антисоветских порывах наших барахольщиков». Даже «экранизацией» того, чего в романе нет. Это дало полное право серьёзному обозревателю кино Александру Кондрашову так определить эту «экранизацию»: «Никакой таинственности и страсти. Откровенная пропагандистская лабуда». («Литературная газета», № 45, 2016).
Я же обращаю внимание в связи с этим на самохарактеристику «шестидесятников». И роман, и «экранизация» названы «Таинственная страсть», где стыдливо опущено, что это страсть «к предательству»: «Одной из душевных болезней «западных шестидесятников» («штатников», как называл их и себя Василий Аксёнов) было равнодушие, а скорее даже враждебность по отношению не только к государству, но и к Отечеству» (Ст. Куняев). То есть это – обыкновенная смердяковщина, душевная болезнь, открытая Ф. Достоевским. Умеет бес насмеяться над человеком: люди, считавшие себя русскими писателями, стали персонажами русской литературы, причём, самыми отвратительными…
А в Москве, на улице Красноармейской, на доме 21, где жил В. Аксёнов, установлена мемориальная доска. Там, где он организовал, «создал со товарищи» неподцензурный альманах «Метрополь» («Большой Василий», «Литературная газета», № 33, 2022). Это даже не двусмысленность какая-то, ныне абсолютно неуместная, а утверждение: «создавать» подпольное русофобское издание – тем самым подрывать основы страны, создавать в ней хаос, уготовляя гражданам лишения, страдания, да и гибель – это хорошо, это доблесть, которая должна жить в памяти благодарного народа. Чему надо подражать и впредь, на что надо равняться.
Напомню, что в связи с выходом «Метрополя» Станислав Куняев обращался с громким аналитическим письмом в ЦК КПСС, убедительнейшим образом давая оценку литературного и мировоззренческого характера этому подпольному изданию. Подобному изданию в своё время великий А. Пушкин давал такую оценку: «Сатирическое воззвание к возмущению… С примесью пошлого и преступного пустословия» («Александр Радищев»). Но поскольку проблема была поставлена как «национальный вопрос», всё спустили на тормозах, так как этот «вопрос» у нас в России всегда опасен. Хотя какой же это национальный вопрос? Он скорее и в большей мере духовно-мировоззренческий, идеологический и даже политический.
Поражает та наивность и опрометчивость, с которыми «шестидесятники» поспешили отметить свои неприглядные дела памятниками. Словно не ведают, что ничто у нас в России так трудно не создаётся и так легко не разрушается, как памятники. И что «чрезмерная о вечности забота, она, по справедливости, не впрок» (А. Твардовский. «Крошится рваный цоколь монумента»). О чём должны говорить выросшие как грибы по России памятники А. Солженицыну? А говорят они предельно однозначно о том, что так увековечивается его вклад в разрушение страны, «обустроенной» по его писаниям. Об «освобождении» от «тоталитаризма» оставим на забаву уж самым наивным или неглубоким людям. Но разве это то, что должно «увековечиваться»? Или это залог повторения такого же «обустройства России» в будущем?..
На нынешнее же настойчивое возвращение «шестидесятничества», в сознание людей, теперь и вовсе неуместное, скажу стихами талантливого поэта Юрия Беличенко:
На Лубянке не стреляют,
На Литейном – тишина,
Эмиграция гуляет,
Как неверная жена.
Всё забылось, всё простилось,
Всё отмылось добела,
И в заслугу превратилось,
Что со многими спала.
И словами Станислава Куняева: «До сих пор «шестидесятники» не могут успокоиться по поводу того, что в эпоху девяностых они не смогли осуществить свои планы по окончательному разрушению русско-советского мира». Как тут не согласиться с А. Межировым:
Когда ушли утопии с орбиты
И обнажилось мировое зло,
Не из народа, из низов элиты
Коричневое что-то поползло.
Но то, что для Александра Петровича было трагедией, драмой жизни, теперь у последователей «шестидесятников» становится балаганом…
В нашем нынешнем «шестидесятничестве» если что и поражает, то это абсолютная схожесть с «шестидесятничеством» ХХ века. Те же «крайние, голые, сухие выражения протеста», те же с азартом обвинения «грубой действительности» (Ап. Григорьев), «весь этот цинизм какой-то, не то развращённой, не то от рождения непробудившейся души» (В. Розанов). То же – полное отрицание русской жизни: «Эти люди, как легко убедиться, не были великими русскими писателями, а потому по замечанию критика, об них нельзя с несомненностью сказать, что они были вполне русскими…» (Н. Страхов). И всё дело в том, что это «направление», как тогда, так и теперь, получило полное преобладание в общественном сознании, хотя оно не составляло магистрального пути русской литературы, которая шла иным путём…
Вот логика «шестидесятников», предельно ясно выраженная президентом ПЕН-клуба, одним из редакторов пресловутого «Метрополя» Андреем Битовым: «Мы взяли всё худшее от Запада и потеряли всё лучшее, что было при советской власти». То есть, они взяли («мы взяли») и из этого вышло то, что неизбежно только и могло выйти: «В нынешней России человеку делать особо нечего, кроме как воровать». Но говорится это с чувством абсолютной правоты и непричастности к происшедшему, словно такая интеллектуальная несостоятельность должна вызывать сочувствие и даже восхищение читателей: «Ищу виноватых, наверное. Мы ведь всё-таки ищем виноватых» («Мы взяли все худшее и потеряли всё лучшее…», «Литературная газета», № 21, 2012). Какой уж тут анализ причин происшедшего и уж тем более покаяние. Он находит виноватых: «Это хамство и растление у нас продолжается с 17-го года». Но после 1917-го года много чего происходило в России. А новое «хамство» и «растление» началось тогда, когда по словам самого же А. Битова, «взяли всё худшее»… Казалось бы, всё очевидно, но такова, ничем непоколебимая, самооправдательная логика «шестидесятничества» и иной, как видим, она быть не в состоянии.
Бойцы новой мобилизации «шестидесятников» теперь признают, что «слово «шестидесятник» далеко уже не комплимент, обозначающий талант и солидарность». Ну положим, талант по большому счёту оно и не обозначало. В «шестидесятничестве» всегда на первый план выдвигались идеологические убеждения, а потом уже талант. Из всех достоинств и заслуг остаются, пожалуй, только «споры» и «поиски истины», критерием таланта не являющиеся. Но примечательно то, почему оно теперь «ругательство»: так как оно обозначает «напрасные иллюзии на сотрудничество с властями». Заметим, с любыми властями, по определению, вне зависимости от того, «тоталитарные» они или «либеральные».
За велеречивым словоблудием чётко просматривается смысл, чего же они хотят эти, малые теперь уже «шестидесятники». Хотят того же что было у их предшественников, «великих «шестидесятников», творить безобразия, отравляя умы и души читателей откровенной смердяковщиной и предательством, выставляя их как доблесть, и в то же время быть любимцами у властей (как те были «любимцами партийной элиты»), под их покровительством и защитой. Но на этот раз, ввиду всего происшедшего и пока ещё происходящего с их прямым участием, такой по их же выражению «промискуитет», не получится. Не получится по той простой причине, что литература вытеснена из общественного сознания, рекламно-клиповую же информацию назвать литературным процессом невозможно. Изливать свою желчь и ненависть в либеральных поделках негде. Уже всё загажено отходами продуктов их жизнедеятельности. Остаётся делать это уже вне литературы, так сказать, прямым действием на Пушкинской или на Болотной… А это уже совсем другое – не «споры» и не «поиски истины»…
Не из каждого поэта, литератора можно сделать идеологическое пугало. Видимо, только из тех, в ком недостаёт собственно литературного таланта для успеха и для которого быть пугалом выгоднее и дороже, чем писателем с той мерой таланта, какую ему Господь дал. Наши западные противники безошибочно различают из кого из наших писателей можно делать такое пугало, а из кого нет, в своих интересах против России. Наши «шестидесятники» не то, что не устояли против такого соблазна, такая вербовка их на дела русофобские отвечала их внутренней сути. Вопрос о народе, о родине и её трагической участи, благодаря их деятельности, тут не стоял изначально. Самоутверждение любой ценой, оказались дороже всего остального, в том числе и родины. Книга Станислава Куняева «К предательству таинственная страсть…» это полностью подтверждает и убедительно доказывает.
Станислав Куняев несмотря ни на что, на мировоззренческую запутанность своего времени, на внешние обстоятельства всей своей жизнью явил прекрасный пример истинного служения русской литературе и России. Этот пример, эта духовная величина – наше достояние, необходимое теперь для нашего спасения… Но как труден и не прост, как и всегда, этот тесный путь спасения.
Ап. Григорьев писал М.П. Погодину в марте 1851 года: «Наше дело пропащее, хоть мы и правее их, – хоть я и положу всё-таки за него, за это дело пропащее, всё, что мне положить остаётся». Напомню, что это отчаяние великого критика было вызвано тем, что его обложили полностью, что тогдашние «шестидесятники», говоря его словами, ещё не «проперделись» и ему, человеку высочайшей литературной образованности, чуткости и интеллекта работать было негде.
Вспоминается же трагедия Ап. Григорьева вовсе не случайно. Как и это, вроде бы, недоуменное наблюдение Василия Розанова, но содержащее в себе российскую трагедию духа: «Неужели это правда, что разница между радикализмом и консерватизмом есть разница между узким и широким полем зрения, между «близорукостью» и «дальнозоркостью». Если так, то ведь, значит, мы победим? Между тем никакой на это надежды…»: «Душа моя теперь возмутилась; и что мне сказать? Отче! Избавь меня от часа сего! Но на сей час я и пришёл» (Евангелие от Иоанна, 12: 27).
Вроде бы, писатель несколько растерян. Но только с такой «растерянностью», с таким «сомнением», с такой искренностью и глубиной мысли и побеждают.
Пётр Ткаченко
Р.S.
О том, до какой степени дошло наше общее падение, а культуры и литературы в особенности, свидетельствует этот, поразивший меня факт. Говорит он о том, что никакой «штукатуркой, подмазкой, подбелкой» дело литературы и литературной жизни в стране уже не поправить. Необходимо новое, на каких-то иных началах их строительство и организация.
Дело в том, что книгу Станислава Куняева я приобрёл в лавке Союза писателей России, на Комсомольском, 13. Обрадовавшись, сразу и не заметил, а потом только досмотрелся, что титул книги намертво приклеен к обложке. На нём же была надпись, автограф. Значит, надо полагать, патриарх вручил эту книгу, столь значимую и теперь так необходимую для вразумления кому-то из более молодых писателей. Книгу, которую надо бы обсуждать в писательской среде и в обществе. Её же обладатель, «писатель», разумеется, заклеив надпись, не читая, выставил на продажу… «Рынок», видите ли. Да нет, добровольное безумие скорее.

«Зло от юности его…»
В нашем обыденном сознании основополагающие принципы устройства мира обычно заслонены соображениями второстепенными и побочными. Про малое нередко думают, что это – большое, а про большое, что это – малое. Но при этом трудно сориентироваться в мире и распознать, что же происходит в действительности. Обыденная логика диктует нам уверенность в том, что зло этого мира когда-нибудь, рано или поздно, но обязательно будет повержено, и наступит некое, трудновообразимое утопическое благоденствие. Но уже только одно знание этого влечёт за собой иной характер действий, наше иное положение в мире. Но зло в этом мире неустранимо. С этим трудно смириться, в это невозможно поверить. Как в этих стихах Якова Полонского: «Мы оба поразим своим рассказом небо/ Об этой злой земле, где брат мой просит хлеба. / Где золото к вражде, к безумию ведёт. / Где ложь всем явная наивно лицемерит, / Где робкое добро себе пощады ждёт, / А правда так страшна, что сердце ей не верит».
Двух полярный мир. Три фазы взаимодействия – http://viperson.ru/articles/dvuhpolyarnyy-mir-tri-fazy-vzaimodeystvich
Автор математической модели развития общества